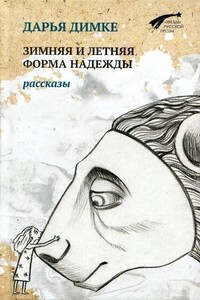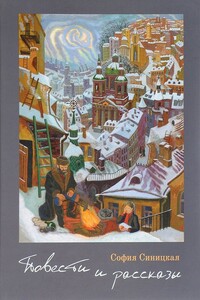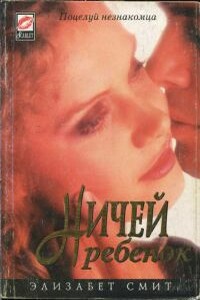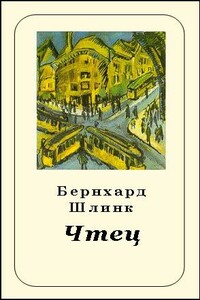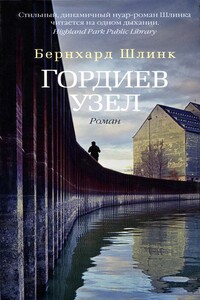1
Они мертвы – женщины, которых я любил, друзья, брат и сестра и, помимо них, родители, тетки и дядья. Много лет назад я ходил на похороны часто, потому что тогда умирало предшествующее мне поколение, потом – редко, а в последние годы – снова часто, потому что умирает мое поколение.
Я долго считал, что похороны помогают расстаться с умершими. Расстаться нужно: осознание того, что человек умер, остается тревожащим, пока свершившееся расставание не поможет обрести покой ему и тебе самому. Но похороны не помогают. Похороны убеждают близких в значении умершего и выделяют каждому малую толику этого значения. Похороны убеждают скорбящих в достоинстве ритуала, ради которого жертвуют двумя или тремя часами, во время которого смотрят скорбящие и смотрят на скорбящих, отдают последние почести умершему и выражают соболезнования близким; похороны придают некоторое достоинство и скорбящим. Но расстаться с умершими похороны не помогают.
Помогает присутствие при умирании. Даже то, что я пришел к отцу, когда он уже умер, но еще лежал на кровати и им еще не занялись агенты похоронного бюро, – помогло. Ему не закрыли глаза и рот; и эта картина – отчаянно распахнутые в смертельном ужасе глаза и оскаленные зубы – врезалась мне в память. Он был мертв. И когда покойник обряжен, лежит в гробу на возвышении и кажется уже пластмассовым, а не из плоти и крови, – даже и тогда его смерть говорит так ясно, что ты понимаешь: нужно с ним расстаться.
Но то, что ты это понимаешь, еще не разлучает. Разлучает только время. И вот что странно: чем меньше ты соприкасался с человеком в годы, предшествовавшие его смерти, тем дольше длится расставание с ним, а чем больше соприкасался, тем оно быстрее заканчивается. Я слегка приятельствовал с моим соседом; время от времени мы сходились за стаканчиком вина: летом он меня приглашал на свой балкон, зимой я его – к моему камину, и поскольку по утрам мы выходили из дома в одно время (он – в пекарню, а я – к газетному киоску), то мы почти ежедневно встречались на лестничной площадке. Именно поэтому, когда он умер, я через пару дней ясно осознал, что эти встречи и приглашения – в прошлом и что он мертв. Я расстался с ним, и хотя все еще был печален, но это была спокойная печаль – боль после свершившегося прощания, прощальная боль.
Совсем иначе было, когда умерла моя бывшая жена. Она со своим вторым мужем уехала в Чехию и осталась там после его смерти. Мы сохраняли дружеские отношения и дважды в год встречались, весной – там, а осенью – здесь, и после ее смерти мне долго представлялось, что она по-прежнему живет, только где-то еще дальше. Она умерла в апреле, через несколько недель после моего посещения, и в последующие месяцы она присутствовала в моей жизни – или не присутствовала в моей жизни – так же, как в предшествующие годы. Я по-прежнему временами думал о ней, вспоминал что-то из нашей с ней жизни, что она сделала или сказала, замечал себе что-то, что надо будет рассказать ей в октябре, когда она приедет ко мне, и даже мысленно рассказывал ей это, и при этом так явственно видел ее перед собой, что рядом с этим осознание ее смерти оставалось абстрактным. Только зимой я понял, что нужно уже с ней расстаться, и только в апреле следующего года я с ней расстался. И после этого долгого расставания я еще долго был печален, – собственно, совсем печаль эта так и не прошла, и она никогда не пройдет совсем.
2
С моим другом Андреасом я вообще не хотел расставаться. И его в годы, предшествовавшие его смерти, я видел редко; выйдя на пенсию, он переехал, снял маленькую квартирку в Баварии, где жил его сын Томас, а я остался в Берлине. Иногда мы путешествовали по Баварии, порой в Берлине выдавалась насыщенная концертная и оперная программа – или мы встречались на полпути: на докфесте в Касселе либо на Байрёйтском фестивале. Эти совместно проведенные дни всегда проходили прекрасно, живо, доверительно. Мы же друзья детства.