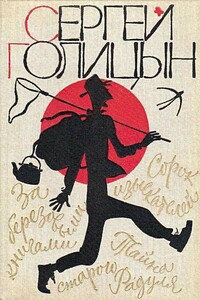Город просыпался. Невидимое солнце гонялось за летучими тенями над крышами домов. Внизу, в тёмных дворах, уже заходились и причитали иномарки. Промчался, простучал по рельсам первый пустой трамвай. После ночной тахикардии приходили в себя светофоры на перекрёстках.
С семи инвалид сидел у окна в квартире на первом этаже. Ждал, когда появится женщина. Уже умытый, с длинными жилистыми руками на подлокотниках коляски.
В плаще, поясом схваченная будто сноп, она выходила из-за угла и шла по противоположной стороне улицы. Ловко работая с фотоаппаратом «Зенит», Плуготаренко успевал снять её несколько раз вместе с пролетающими машинами.
На проявленных снимках всё так и получалось: женщина словно стремилась догнать размазанные машины. Полные ноги её – то одна, то другая – тоже превращались в мазки, но плывущее отрешённое лицо всегда отображалось чётко. Это были фотографии движения, снятые им с очень короткой выдержкой. Так снимают тайно шпионов. Выхватывают их нелепые позы. То одну, то другую – поднятые ноги. Когда кажется, что шпионы или просто пляшут на месте, или всё время бьют по мячу ботинком. Хотя шпионом был он сам, и снимать надо было его самого вместе с инвалидной коляской – пригнувшегося, с поспешностью и усердием осьминога толкающего колёса к ванной, чтобы поскорей проявить плёнку,
Позавтракав с матерью и дождавшись, когда она уйдёт на работу, Плуготаренко сделал ещё несколько снимков. Опять для эффекта размазанного динамичного движения он устанавливал очень короткую выдержку. Он размазывал то передний план перед идущим объектом съёмки, то задний. А когда объект находился в фокусе, новой выдержкой он делал размытыми пролетающие машины.
Он работал как фокусник. С тротуара выдернул идущего старика. Который вдруг глянул на него дремучим глазом. Точно пальцем погрозил. Потом девчушку лет десяти. Несмотря на апрельскую утреннюю свежесть, пробежавшую в одном платьишке.
Крупный кобель протянул. Кучерявый. С вислым пузом как баран. Успел и его снять несколько раз.
Проявленные и сохнущие в ванной фотографии казались какой-то висящей смирившейся плацентой. Увеличенное лицо девчонки было осыпано веснушками точно чёрной гречкой. А хитрые блестящие глаза бегущего кобеля засели в кучерях будто в тучном муравейнике.
За столом в комнате он раскладывал по конвертам готовые снимки. Один конверт – плотный, из-под фотобумаги – лежал на столе отдельно. Он вынимал из него и подолгу рассматривал последние фотографии женщины. Натальи Фёдоровны Ивашовой.
Фотографий было много. Но ни на одной из них она не улыбалась. Она всегда проходила мимо окна с фотографом хмурая, отчуждённая. Или вдруг лицо её становилось плаксивым, страдающим. Словно она только что увидала смерть на дороге, и сегодня точно так же должна погибнуть.
Раз в месяц, когда она приносила ему пособие, он крутился с коляской вокруг стола, как при игре инвалидов в баскетбол. Кидал и кидал, что называется, словесные мячи. Она всегда молчала. Она сидела со стаканом чая напряжённо, для устойчивости выставив полную ногу вперёд. Точно опасаясь, что стул под ней треснет. На буром лице её проступал пот.
Специальную сумочку с деньгами она прятала в хозяйственный пакет. Вставала из-за стола. Приняв в ужавшуюся ладонь железный рубль, говорила: «До свидания, Юрий Иванович». И, пятясь, выходила за дверь. А он тяжело дышал, точно только что свершил половой акт с ней.
Он дико смотрел в телевизор, где какой-то экзотический петушок ходил и встряхивал пышным хохолком перед серой равнодушной самочкой.
Приходила на обед мать. Жёсткие волосы что матери, что сына напоминали непролазный осенний бурьян. Если сказать другими словами – две пригнувшиеся донские кубанки хлебали щи за столом.
Мать поглядывала на сына. Спросила про редакцию. Сын ответил, что сейчас поест и поедет туда.
– Помочь в подъезде?
– Зачем? Пандус теперь. Справляюсь.
– «Пандус». «Справляюсь». Да если бы Коля Проков не надавил в военкомате – так и корячились бы в подъезде до сих пор!
В военкомате Коля Проков «надавил» полгода назад. Пандус сделали – уже месяц как. Однако мать не уставала напоминать сыну об этом каждый день.
– Почему не ездишь к ним? В Общество? Ведь всего там можно добиться. Глядишь, и машинёшку бы тебе там выбили. Вон Громышев. Такой же, как ты, а давно уже трещит на своей по улицам, в кабинке почти не видать, но едет. Едет! Да ещё и жена рядом втиснутая подпрыгивает. Чем ты хуже его? Он-то хоть ходит. На протезах.
Сын хотел сказать, что в Обществе о нём и так уже хорошо позаботились. Тот же пандус в подъезде. Вон, вторую коляску – для улицы, на рычажном ходу – почти даром получил. Что у многих ребят-инвалидов и этого до сих пор нет. Но зная, что мать всё равно будет гнуть своё – промолчал.
После трёх Юрий Плуготаренко гнал солнечную россыпь спиц новой коляски в редакцию газеты «Наш город». К редактору Уставщикову. Герману Ивановичу. Рычаги для рук работали как весёлые гимнасты. Солнце баловалось в вышине. До самой последней ветки прорисованные, со светло-зелёной кашкой кружились высокие апрельские тополя.
– Пацаны, закиньте-ка меня наверх!