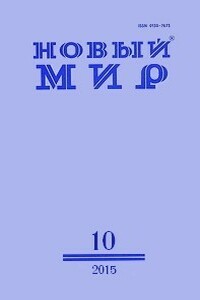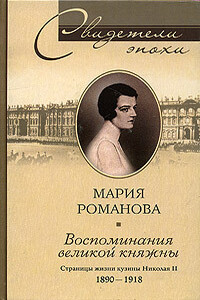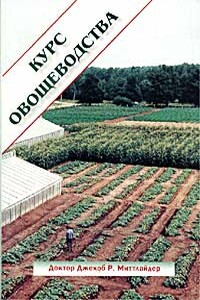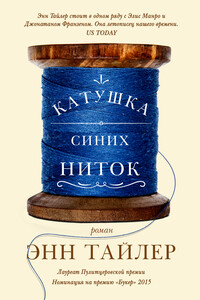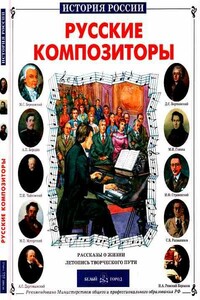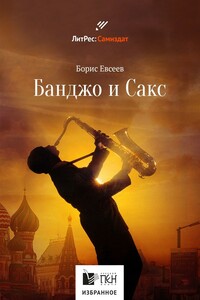Опубликовано в журнале: «Октябрь» 2017, №4
Борис Евсеев
Чукотан
арктическая повесть
Борис Евсеев – прозаик, автор более двадцати книг. В советское время печатался в Самиздате. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры (2012), Горьковской (2005), Бунинской (2011) и других премий. Вице-президент Русского ПЕН-центра, профессор кафедры творчества Института журналистики и литературного творчества. Живет в Москве.
Огромная Серая
Щелчок, еще щелчок – и медвежий сдавленный рык:
– Уо-о-оддьсс… Уоддь… хрлл… хрлл… Уо-о-оддьсс!..
Сперва Выкван думал: как только на лед реки Казачки ступят арестованные и вслед за ними державшие винтовки наперевес конвоиры, медведица уберется куда ей надо.
Не тут-то было! Медведица опять зафырчала, тихо рыкнула, и коротко стриженные волосы на голове у Выквана встали дыбом. Он скинул оленью варежку и вмиг начавшими леденеть пальцами полез под нахлобучник. Короткие волосы, до которых Выкван раньше терпеть не мог дотрагиваться, оказались приятно жесткими, как медная, на катушках, проволока, которую летом разносили по ярангам болтливые ламуты.
Медведица смолкла, и Выкван, дрожа, опять стал всматриваться в метельную мглу. Впереди конвойных, по неровным наметам снега, облепившим лед Казачки, как струпья облепляют больное тело, тяжко ступали ревкомовские. Руки их были накрепко стянуты корабельными канатами – линьками.
Что ревкомовских поведут в Арестный дом, Выкван узнал лишь ближе к вечеру. Пьяный «колчак» сболтнул другому, а Выкван подслушал. Маленький, юркий Выкван – не зря русский доктор прозвал Чукотанчиком – тут же кинулся к себе в ярангу: хоть два куска вяленой оленины, а надо было стащить у матери для ревкомовских. Кто их в Арестном доме кормить станет? Скажут: «Ишь ты, еще корми их!» Бить будут, а кормить – это шиш…
Теперь эта оленина в сбившемся набок мешке мешала Выквану вертеться и хорошенько разглядываться по сторонам.
Еще несколько сжатых хлопков – и четверо арестованных, связанных попарно узластыми линьками, стали падать. Те, что умерли сразу, волокли на лед еще живых. Достреляв упавших, двое конвойных неловко развернулись и, не оглядываясь, пошли назад, в Онандырь, или, как больше нравилось Чукотанчику, в Кагыргын. Еще двое – замешкались.
Сбоку и сзади догорала снаружи обложенная валунами, а внутри доверху набитая оленьим кизяком нежилая яранга. Огонь то разгорался, то гас. Когда ветер снова разворошил пламя, Выкван увидел: двое отставших конвойных все еще топчутся возле убитых и смешно пихают друг друга. Один пытался нагнуться над мертвым человеком, а другой хватал его за руки и толкал в плечо головой – совсем как в чукотской борьбе тэйкэв!
Вдруг как по команде конвойные перестали пихаться и, чуть помедлив, нехотя побрели по льду Казачки назад, в Кагыргын.
– Ххррл… уо-оддьс… журлл… журлл… – сладко зажурчала медведица, и Выкван, прятавшийся от нее в узкой щели расколотого надвое тороса, понял: медведице не до него! Огромная Серая – так он сразу прозвал свирепую гостью, чтобы хоть слегка ее ублажить, – пойдет за крупной добычей!
До этого медведица рычала не так сладко. Оно и понятно: Выкван был мал, худ и от непрестанной беготни слишком жилист. Ни кусочка мяса, ни капли жира! А медведица – так говорили старшие – за последние месяцы привыкла набивать пузо доверху сладкой падалью и мясом неживых, теперь не всегда закапываемых в землю людей. И чего ей тогда гонять за мелкими костями? Потому-то, как только конвойные отошли подальше, медведица и завела свою ласково-пожирательную песню, такую же глупую и для людей ненужную, как песня белой куропатки летом в тундре. Хлюпающая ласка и тяга к неостывшей еще мертвечине перла из медведицы наружу так сильно, что волосы у Выквана опять встали дыбом. Правда, на этот раз не сама медведица его испугала, а то, как сильно походило урчанье Огромной Серой на вздохи Ёлки-Ленки. Вздохи эти журчащие, вздохи сдавленные доносились из председательского дома чаще всего по утрам, когда Выкван приносил красавице Ёлке и «приссидателю» Мандрику по махонькому куску свежей оленины.
Слово «председатель» Выкван выговаривал с присвистом и неправильно. Слово это его жутко злило. Куда лучше было смешное «Мандрик»! Конечно, и оно было на вкус не так чтобы шибко приятным. Скорей, пекучим. Выквану казалось: имя это трещит и вздрагивает, как пампушка на сковороде у русской кухарки. А под сковородой – желто-серое пламя! Вот веселое имя Мандрик и пляшет, и подпрыгивает, и раскаленным жирком брызжет, как брызгали еще вчера горячими словами ревкомовские, а до них – «колчаки».
Смеяться Выквана научили русские. До этого Выкван и думать не думал, что на свете, кроме охоты, криков и плача, бывает еще и смех!
Однако, посмеявшись над пляшущим именем, он тут же вспомнил: при виде убитых нужно жаловаться и называть себя плохим, потому что только мертвые бывают хорошими. Выкван прикрыл рот варежкой. Он даже собрался заплакать, но не смог: ветер, проникавший и в разлом громадного тороса, высушил слезы вмиг.
Тогда Выкван-Чукотан снова стал думать про медведицу.
Уже несколько дней, как он знал: в их краях завелась страшно умная, непомерной величины и силы помесь бурого и белого медведей. Что это та самая медведица, про которую он знал, а не какой-то случайный медведь – даже не тот страшный пещерный медведь кочатко, которым его пугали много зим назад, – Выкван понял сразу – по горбатой спине, по вкрадчивой повадке.