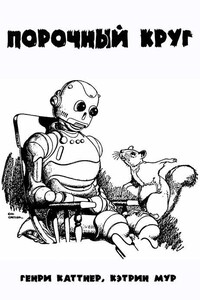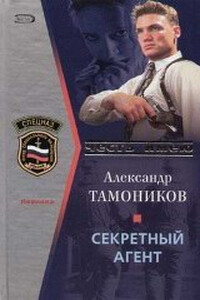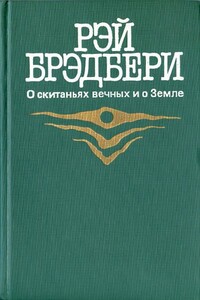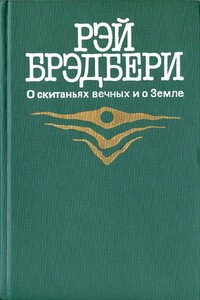Этот старик забрел в почти безлюдный парк под тусклым апрельским небом в полдень, вместе с легким ветерком, тянувшим откуда-то из воспоминаний о зиме. Его волочившиеся ноги были в покрытых желто-коричневыми пятнами обмотках, волосы длинными седыми патлами торчали во все стороны, как и его борода, в которой прятался рот, казалось дрожавший от неистребимого желания откровенничать.
Он медленно посмотрел назад, словно там, в сгрудившихся руинах, в беззубом силуэте города, потерял столько вещей, что никак не мог сообразить, что именно. Ничего не найдя, он побрел дальше, пока не нашел скамьи, на которой в одиночестве сидела женщина. Окинув ее изучающим взглядом, он качнул головой, присел на дальнем уголке скамьи и больше не смотрел на нее.
Три минуты он сидел с закрытыми глазами, рот его не переставал шевелиться, голова двигалась, словно носом чертила в воздухе единственное слово. Дописав, он открыл рот и внятно, отчетливым голосом произнес его:
— Кофе.
Рот у женщины приоткрылся, она оцепенела.
Узловатые пальцы старика запрыгали, разыгрывая пантомиму на невидимой салфетке у него на коленях.
— Ключиком — раз! Ярко-красная банка с желтыми буквами! Сжатый воздух — с-с-с! А теперь протыкаем фольгу — ш-ш-ш! Как змея!
Словно от пощечины, женщина мотнула головой и с ужасом, как зачарованная, уставилась на двигающийся язык старика.
— Запах, аромат, благоухание. Налитые, темные, дивные бразильские зерна, свежий помол!
Вскочив на ноги, шатаясь, как подстреленная, женщина нетвердо шагнула прочь.
Старик широко раскрыл рот: «Нет, я…»
Но она уже побежала, и вот ее нет.
Старик вздохнул и поплелся по парку, пока не подошел к скамье, на которой сидел молодой человек, поглощенный заворачиванием сушеной травы в маленький квадратик тонюсенькой бумаги. Нежно, почти ритуально его тонкие пальцы расправляли траву, он с дрожью свернул трубочку, сунул ее в рот и, как загипнотизированный, прикурил. Он откинулся назад, зажмурился от вожделения, вбирая ртом и легкими странный вонючий воздух.
Старик проследил за унесшимся с полуденным ветерком дымком и произнес:
— «Честерфилд».
Молодой человек изо всех сил стиснул коленки.
— «Рейлиз», — произнес старик. — «Лаки страйкс».
Молодой человек уставился на него.
— «Кент». «Кул». «Мальборо», — произнес старик, не глядя на него. — Были такие сигареты. Белые, красные, янтарные, цвета зеленой травы, небесно-голубые, чистого золота, с красным пояском из пленки наверху, с треском срывали вместе с целлофаном, и синяя марка госпошлины…
— Заткнись, — буркнул молодой человек.
— Покупаем в аптеке, у газировщицы, в подземке…
— Заткнись…
— Успокойся, — сказал старик. — Знаешь, это я от твоего дыма задумался…
— Нечего задумываться, — молодой человек повернулся так резко, что самокрутка выпала и рассыпалась на его коленях. — Смотри, что из-за тебя наделал!
— Извини. Такой чудный день, такой дружеский.
— Никакой я тебе не друг.
— Мы все теперь друзья, иначе зачем же жить?
— Друзья? — фыркнул молодой человек, бесцельно перебирая рассыпавшуюся траву и бумажку. — Может, и были «друзья» тогда, в семидесятые, но сейчас…
— Семидесятые. Ты, наверное, еще малышом был. Тогда еще были «Баттер фингерз» в ярко-желтой обертке. «Бейби руфс». «Кларк Барз» в оранжевом фантике. «Милки уэйз» — будто все мироздание проглатываешь — звезды, кометы, метеоры. Вкусно.
— Вовсе не было вкусно, — молодой человек вдруг поднялся. — Что это с тобой?
— Я помню грейпфруты и лимоны — вот что со мной. Ты помнишь апельсины?
— Черт побери, конечно. Проклятье, апельсины. Хочешь сказать, я врун? Хочешь обидеть? Ты что, свихнулся? Не знаешь, что ли, закона? А я ведь могу тебя сдать, знаешь ты?
— Знаю, знаю, — старик пожал плечами. — Погода сбила с толку, захотелось сравнить…
— Сравнить слухи, вот что тебе скажут в полиции, спецполицейские, так и скажут, слухи, из-за тебя, ублюдок, еще в историю влипнешь.
Он схватил старика за лацканы, они затрещали, пришлось вцепиться снова, собрать их в кулак, и он заорал сверху вниз в лицо старику: «С каким бы удовольствием я вытряс из тебя душу! Так давно никому не врезал…»
Он тряхнул старика. От этого захотелось толкнуть, когда он его толкнул, то, само собой, добавил кулаком, а там уж распалился и принялся его дубасить, и скоро на старика дождем посыпались удары, а он стоял, будто в грозу под потоками ливня, и только пальцами отводил удары, от которых его щеки, плечи, бровь, шея покрылись кровью, а молодой человек выкрикивал марки сигарет, со стоном выдавливал названия конфет, изрыгал имена сигар, со слезами в голосе вопил о сластях, пока старик не рухнул на землю и, содрогаясь, не покатился под ударами ног. Молодой человек остановился и заплакал. При этом звуке съежившийся и стиснувший от боли зубы старик отнял пальцы от расквашенного рта и с изумлением воззрился на своего противника. Молодой человек рыдал.
— Пожалуйста… — взмолился старик.
Молодой человек зарыдал еще сильнее, он заливался слезами.
— Не плачь, — сказал старик. — Не вечно же мы будем голодать. Перестроим города. Послушай, я вовсе не хотел, чтобы ты расплакался, а только чтобы ты задумался. Куда мы идем? Что делаем? Что наделали? Ты не меня бил. Ты хотел побить кого-то другого, а я тебе просто подвернулся под руку. Гляди, я уже сижу. Со мной все в порядке.


![Крестный путь сквозь века [Перекресток столетий, Сквозь века]](/storage/book-covers/72/72f3000a881a849b12bd2a73341feb910e5dad02.jpg)