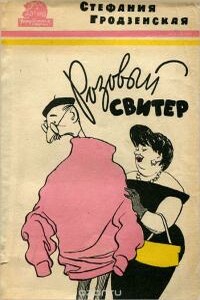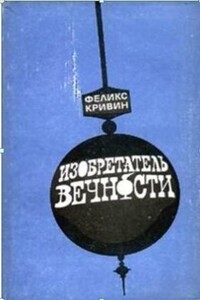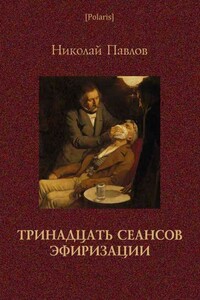В сердце каждого из нас, уже в момент рождения, селится маленький червячок, который с течением времени становится все жирнее и злее. Этот червячок гложет нас без устали и способен омрачить любую радость, а переживания сделать еще сильнее.
Я хочу сказать, что у каждого из нас есть собственная неприятность, собственная личная трагедия, которая является частью нас самих и не имеет ничего общего с маленькими или крупными неприятностями, которые Бог посылает людям, чтобы как-то оживить и разнообразить их существование.
Червячок гложет Луиджи, и тот думает: «Волосы так и выпадают. Придется носить парик». Злится Франческо: «Вот и еще одного зуба как не бывало. Скоро я стану беззубым, как расческа из захудалой гостиницы!»
У меня тоже есть свой червячок: я панически боюсь растолстеть.
В пятнадцать лет я ел крутые яйца прямо со скорлупой и носил с собой в школу целую сумку хлеба. Я ел все подряд, и меня ненавидели все собаки в округе, потому что из моего дома не выносилось ни крошки съестного. Даже по ночам мне снилась еда.
Конечно же, я стал беспокоиться: развитие развитием, однако вес мой стремительно рос. В пятнадцать лет я обнаружил, что вешу столько же, сколько должен весить в восемндацать. Обстоятельства вынудили меня учиться в колледже, и я подумал: «Прекрасно. Наконец-то я похудею и буду в форме». Поговорив со знающими людьми, я выяснил, что в те времена в колледжах кормили не слишком-то сытно.
И действительно, в течение пяти лет к столу подавались овощные супы, картошка тонкими ломтиками, бульончики, горошек, яйца, тщательно отобранные среди самых мелких.
Я растолстел еще больше. Небольшое количество пищи полностью компенсировалось частотой ее приема.
Дома я начал питаться, как раньше, и, разумеется, прибавил в весе, потому что мой организм, благодаря пятилетней дисциплине, работал, как часы, и был в состоянии усваивать все, вплоть до металлов. Чайную ложечку, случайно попавшую ко мне в пищевод, не обнаружил даже рентген. Единственное неудобство состояло в том, что когда речь шла о металлах, помимо обычного растительного масла, я вынужден был употреблять машинное.
Наконец я влюбился. В девушку, с которой был знаком я и, к сожалению, еще восемь или девять моих однокашников. Посему я страдал и полностью утратил аппетит. Единственным утешением могло послужить то, что испытывая адские муки, я в то же самое время не мог не похудеть.
Этого не произошло. Я поправился еще больше: желудочный сок, привыкший расщеплять металлы, кожу и дерево, усиленно дробил то мизерное количество пищи, которое я поглощал, выжимая из нее все питательные вещества, до последней частички.
Капля скользит по стеклу, и большая часть жидкости, попавшей на него, катится ко всем чертям. На впитывающей бумаге жидкость остается вся, от первой до последней капельки. Мой организм превратился в новехонький лист впитывающей бумаги. Я был вынужден крутиться, как белка в колесе, чтобы сводить концы с концами, и вел суматошную жизнь, питаясь в самое неподходящее время: ужинал в семь утра, завтракал в 13.25, а обедал в полночь. Жил в сотнях гостиниц, перепробовал множество кухонь.
Я еще больше растолстел. Подобное разнообразие ободряюще подействовало на мой пищеварительный тракт: каждое блюдо было для него сюрпризом, беспорядочное расписание — новым стимулом.
Даже Альбертино, вопреки моим ожиданиям, вынуждал меня полнеть. Очевидно, мой желудок сказал сам себе: «Такое крошечное существо нуждается в толстом и солидном отце, способном его защищать и поддерживать». И принялся проделывать сверхурочную работу, заставляя меня перекусывать даже между приемами пищи.
Когда война установила новый порядок питания, я радостно вскрикнул: «Наконец-то!»
И сегодня, по прошествии почти двух лет строгих ограничений в еде, я взвесился.
Я поправился на один килограмм. В прошлый раз я весил восемьдесят четыре кило, а сейчас весы показывали восемьдесят пять.
Я грустно поделился этой новостью со своей прелестной спутницей жизни, но та только улыбнулась в ответ.
— Когда в следующий раз будешь взвешиваться, не держи на руках Альбертино, — сказала она.