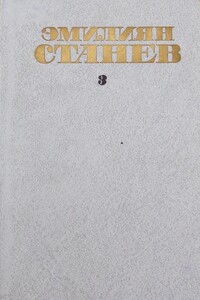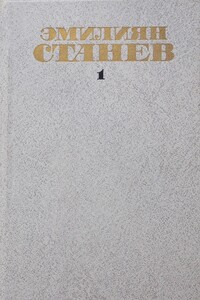Старая лиса следила за каждым движением своего пятимесячного лисенка, но делала вид, что спит.
Лисенок сидел на тропинке. Время от времени он поднимал свои черные бархатные ушки, слишком большие для его маленькой головы, и прислушивался к перебранке соек в дубовой роще. Лисенок крутился здесь с самого полудня, лишь только солнце осветило всю вырубку, ложился, вставал, вывешивал язык и поскуливал, как щенок, потерявший хозяина.
Лису это совершенно не трогало. Она продолжала лежать, равнодушно прикрыв глаза, но сквозь черные щелки проглядывали желто-зеленые зрачки. Солнечный луч, пробившись между скалами, освещал ее белое брюхо.
Несколько дней назад у нее было пятеро лисят, но она прогнала их прочь, и теперь они бродили по ущелью. Один только этот лисенок не желал уходить, хотя и ему мать дала понять, что его присутствие ее раздражает. Материнский инстинкт угас в ней. Она снова начала толстеть, летняя шерсть вылезала, зимняя буйно росла, а вылинявший хвост покрывался новой рыжеватой шерстью.
Целыми днями лиса лежала под скалами, покрытыми зеленым плющом, желтым лишаем и молодыми осинками, раньше времени загоревшимися багряным цветом. Лето кончалось, и пищи было вдоволь; по ночам лиса досыта наедалась прелыми и сладкими дикими грушами, ягодами боярышника и диким виноградом, оплетавшим, как веревкой, ветви деревьев. Порой ей удавалось поймать зайчонка, птицу или мышь, и утром она возвращалась домой довольная и сытая, мокрая от росы, охваченная ленивой истомой и безразличием ко всему.
В послеполуденные часы она погружалась в сладостную дрему. Солнце приятно припекало, в примолкшем лесу стояла тишина, река пенилась на дне ущелья, и ее ровный рокот убаюкивал. Не будь на тропинке этого упрямого и глупого лисенка, мать погрузилась бы в блаженный сон.
Лисенку надоело стоять на одном месте, он повернулся, чтобы лечь, но, снова увидев мать, нерешительно пошел к ней. Всем своим видом он молил о прощении. Красивые глаза, желтые как янтарь, словно говорили: «Почему ты меня гонишь и кусаешь? Что я тебе сделал?»
Лисенок подошел так близко, что почувствовал запах матери, и в нем опять проснулась надежда: может быть, на этот раз мать примет его, не заворчит, не укусит? Тогда он ляжет возле нее и поиграет ее хвостом, как он это делал всего несколько дней назад.
Почти уверенный в том, что все так и будет, он потянулся лизнуть продолговатую морду матери. Но в то же мгновение лиса подпрыгнула, как на пружине. Лисенок бросился бежать. Шерсть на его спинке встала дыбом, он старался увернуться от оскаленной пасти матери, а она злобно ворчала и кусала его. Мать гнала лисенка через всю вырубку до большого плоского камня, где лисенок беспомощно повалился на спину. Лиса нависла над ним, оскалив свои белые и острые, как шило, зубы и долго смотрела на свое дитя горящими от ненависти глазами. Это означало: «Не смей подходить ко мне! Этот лес мой, и тебе здесь делать нечего! Отныне я тебе не мать и знать тебя не желаю!»
Когда мать скрылась в подлеске, лисенок встал и, даже не отряхнувшись, грустно поглядел на родные скалы. Путь туда был ему заказан, и он печально потрусил к дубовой роще в глубине дола.
Это была лисичка, и очень мелкая. Мех у нее был серо - черный с зеленовато-бурым отливом, а грудь и брюшко — серые, почти свинцовые. Обычно кончик хвоста у лисиц белый и заостренный, особенно у тех, что живут в горах, а у нее был тупой, без единого белого волоска и выглядел куцым и каким-то незаконченным. Но зато глаза были редкой красоты и необыкновенно выразительные. Они блестели, как перламутр, а когда свет падал прямо на зрачки, казалось, что они из прозрачного янтаря, в котором проглядывают бесчисленные прожилки. Даже и сейчас глаза лисички не утратили своей живости и ясности. Красноватые брови под широким выпуклым лбом и тонкая острая мордочка еще больше усиливали это присущее только лисам постоянное жизнерадостно-лукавое выражение. Лисичка ходила мелкими бесшумными шажками, грациозно ставя свои черные лапки на одну линию, так что все ее тело раскачивалось в такт шагам, как раскачивается тонкий, гибкий прут в руках бегущего человека.
Добравшись до высокого леса, лисичка почувствовала, как из тенистой ложбины пахнуло холодом и влагой. Лес был полон солнечных капель и серых теней. Раздавалось басовитое жужжание шершней, вылетавших из дупла на дубе, легкая дробь дятла. С одного дерева крикнула сойка. Лисичка залегла, но было уже поздно — птица ее увидела.
Сойка крикнула еще раз, уверенней, и уже не умолкала. Выкрики ее хотя и были все похожи друг на друга: «Кра-а! Кра-а!» — однако для острого слуха лисички они не были одинаковыми. Она понимала язык соек не хуже, чем они сами понимали друг друга. Крики эти значили: «Лиса! Осторожно! Все сюда!»
Лисичка попробовала спрятаться и вошла в лес, но сойка, перелетая с дерева на дерево, не выпускала ее из виду. Блестящий бархатистый хвост птицы все время вздрагивал, хохолок на голове вздыбился. С противоположного склона ложбины отозвалась другая сойка. За ней мирную тишину леса нарушила ореховка своим неприятным криком, напоминающим тарахтение погремушки.