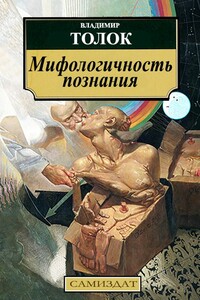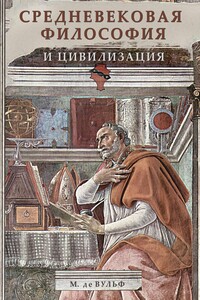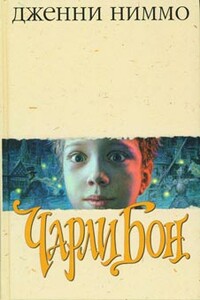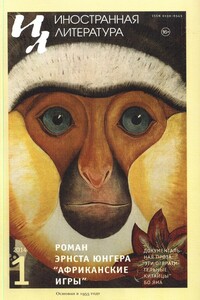В предисловии к «Воле к власти» Ницше называет себя «первым совершенным нигилистом Европы, но уже пережившим в себе до конца этот самый нигилизм — имеющим этот нигилизм за собой, под собой, вне себя».[1]
Если мы рассмотрим высказывание Ницше с современных позиций, то окажется, что в нем выражен оптимизм, которого нет у поздних исследователей. Здесь нигилизм считается не концом, а фазой общего духовного процесса, и эту фазу может преодолеть и пережить не только культура в ее историческом развитии, но и индивид в своем личном существовании, или иначе, эта фаза подобна ране, которая может зарасти.
Как уже было сказано, более поздние исследователи не разделяют эти благоприятные прогнозы. Близость позволяет подробнее различить детали массива, но не массив в целом. К тому же, в момент полного развития активного нигилизма перспектива гибели становится настолько впечатляющей, что не оставляет места для размышлений, выводящих за пределы ужаса. Пусть даже огонь, террор, страдания господствуют только временно. В вихре катастрофы дух, конечно же, не способен нести крест благоразумия; да и в благоразумии едва ли можно найти утешение. Что троянцам в момент, когда рушатся дворцы Илиона, предсказание, что Эней станет основателем новой империи? И по эту и по ту сторону катастрофы мы в состоянии обратить взгляд в будущее и рассудить, какой путь туда ведет, — но в ее эпицентре правит настоящее.
За двадцать лет до этого Достоевский завершил рукопись «Раскольникова» («Преступление и наказание». — Г. X.), которую он опубликовал в 1866 г. в «Русском вестнике». В этом произведении уже давно и по праву усматривают другое свидетельство о нигилизме. Здесь рассматривается тот же объект, что и в «Воле к власти»; но в другой перспективе. Внимание немецкого мыслителя направлено на идейно-конструктивные моменты, а его взгляд сопровождается чувством отваги и духом авантюризма. Русского писателя же, напротив, занимают моральное и теологическое содержание. Ницше упоминал Достоевского мимоходом — он мог знать лишь части его произведения, в которых его захватило прежде всего психологическое, т. е. прикладное, мастерство.
Этих двух авторов можно сравнить в их отношении к Наполеону. Одна из самых основательных работ на эту тему — работа Вальтера Шубарта.[2] Сравнение лежит на поверхности, поскольку как в «Воле к власти», так и в «Раскольникове» отсылки к Наполеону играют заметную роль. Великий персонаж, освобожденный от последних оков XVIII в., у Ницше воспринимается в светлых тонах — в наслаждении новой неограниченной властью, у Достоевского — в страдании, которое нераздельно связано с этой властью. Два этих подхода дополняют друг друга, представляя духовную реальность как позитив и негатив.
Благоприятным знаком можно считать то, что прогнозы обоих авторов совпадают. Достоевский, так же как и Ницше, оптимистичен; он не усматривает в нигилизме последней смертельной фазы. Он, скорее, считает его исцелимым, а именно, исцелимым страданием. В судьбе Раскольникова схематично представлен процесс великого преобразования, который происходит с миллионами людей. Как и у Ницше, у Достоевского создается впечатление, что нигилизм понимается как необходимая фаза в движении к определенной цели.
Потому-то во всякой оценке положения, во всех беседах или в размышлениях наедине с собой, касающихся будущего, настойчиво возникает вопрос: какого пункта это движение уже достигло? Конечно же, ответ, если попытаться его сформулировать или сконструировать, всегда окажется спорным. Причина в том, что этот ответ зависит не столько от фактов и обстоятельств, сколько от жизненного настроения и вообще от перспективы жизни, что опять же делает его иначе и более настоятельно продуктивным.
Оптимизм или пессимизм такого ответа хотя и облекает собой доказательства, однако базируется он не на них. Речь идет о разных размерностях; оптимизм обязан глубине, а доказательство — чистоте силы убеждения. Оптимизм способен достичь слоев, где дремлет будущее, и оплодотворить их. В этом случае его встречают как знание, которое проникает глубже, чем власть фактов, — и даже может творить факты. Его основа находится скорее в характере, чем в мире. Нужно ценить такой оптимизм сам по себе, поскольку его носителя воодушевляют воля и надежда, а также шанс выстоять в завихрениях и опасностях истории. От этого зависит многое.
Оппозицией этому оптимизму служит вовсе не пессимизм. Катастрофа всегда окружена пессимистическими течениями, в частности в культуре. Пессимизм может выражаться как отвращение к тому, что наступает, как, например, у Я. Буркхарда, — тогда обращают взор на прекрасные, пусть и оставшиеся в прошлом картины. Затем случаются переломы к оптимизму, как у Ж. Бернаноса, — в полнейшей тьме возникают проблески света. Именно абсолютный перевес противника работает против него самого. Наконец, есть пессимизм, который, хотя и сознает, что уровень снизился, все же считает возможным величие и в новой плоскости, в частности, дает высокую оценку упорству тех, кто удерживает проигранные позиции. В этом состоит заслуга Шпенглера.