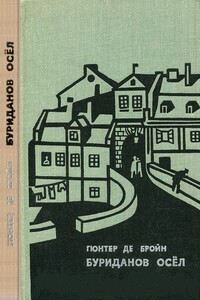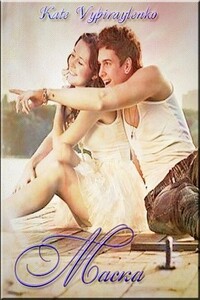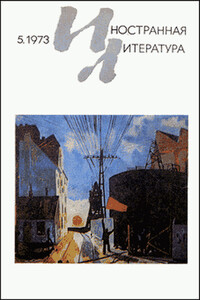1
Началось это так: при пробуждении Карл Эрп улыбался, сам не зная почему. Сна он припомнить никакого не мог. И только позже, ненамного, но все-таки позже он вспомнил фрейлейн Бродер.
Скажем лучше, впоследствии ему казалось, что в то утро он проснулся с улыбкой. (Он так и рассказал об этом фрейлейн Бродер: «Знаешь, это было странно. Я ясно чувствовал, что губы мои улыбаются, и лишь мгновением позже передо мной возник твой образ. Да, так это у меня началось».) Сегодня он, пожалуй, и сам верит в эту версию, сегодня он уже не помнит, что в то утро, как и во всякое другое, будильник вырвал его из глубокого сна, что он повторил свою неизменную утреннюю клятву — рано ложиться, мысленно перебрал распорядок дня в поисках неприятных дел, что вопрос, бриться ему дома или в библиотеке, вырос в проблему, и, лишь коснувшись теплой со сна рукой холодного подбородка, он удивился своему сравнительно неплохому настроению и недоуменно стал искать причин этого, что и вызвало уже упомянутую улыбку, пока наконец у него не возникла (спустя секунду) мысль, какой это идиотизм, когда сорокалетний мужчина ранним утром ухмыляется в постели, после чего углы рта вернулись в исходное положение и, когда лицо приняло обычное выражение, привычный утренний распорядок вступил в свои права: пять минут понежиться в кровати, затем с подобием легкости вскочить, не зажигая света, открыть окно, скинуть пижаму и, вытянув вперед руки, сделать десять приседаний, выглядывая при этом в окно. На яблони, скелеты которых прорезали утренние сумерки, на туман, стелющийся по земле и закрывающий ему вид на Шпрее, и на дом напротив и на удящего рыбу старика в меховой шапке, которого он принимал за ушедшего на покой профессора. С безнадежным усердием он проделал массаж слегка намечающегося брюшка, выкрикнул свое утреннее приветствие в туман, откликнувшийся ему тоненьким голосом. Он и на этот раз не спросил старика, ловится ли что-нибудь, боясь вспугнуть рыбу. В детской было еще тихо. Он уверенно прошел по темному коридору и спустился по лестнице, тесно прижимаясь к перилам, потому что на середине ступеньки скрипели. Возвращаясь из ванной, он уже не соблюдал осторожности, ибо теперь всем пора было просыпаться. Еще года три назад он, голый и продрогший, всегда пробирался к Элизабет и, лаская, будил ее собственными или заимствованными стихами. В такое утро, как сегодня, он, вероятно, сказал бы: «Пусть клубятся туманы, желтый падает лист, но поцелуй дорогого — и серый день станет снова, словно золото, чист», — или что-нибудь в этом роде. Теперь же он просто приоткрывал дверь, шептал: «К сожалению, пора», — и убегал к себе одеваться. Выигранные таким образом минуты он употреблял на то, чтобы полистать недавно купленные книги, лежавшие стопкой еще не читанными на его столике. В это утро он, правда, не понимал, что читал, так как старался придать образу фрейлейн Бродер ясные очертания: приятное, но затяжное занятие, которому он предавался еще и тогда, когда выводил свою машину из гаража на улицу и когда (ровно в семь десять) сидел за завтраком.
В это утро, с этой улыбки, с попытки воссоздать ее образ все и началось! Подчеркнуть это очень важно, дабы не представить характер Карла с самого начала в превратном свете, свете двойственном или, упаси боже, в едко-зеленом свете своекорыстия, и тем самым не впустить его в книгу уже со знаком минус на челе. Ведь если бы он накануне мог предвидеть свою утреннюю улыбку, его непринужденность была бы лицемерием, его деловитость — корыстолюбием. Но на это он был просто не способен. Неспокойная совесть лишила бы его уверенности, благодаря которой он одержал победу. Он был убежден, что судит объективно, и никто из присутствовавших не усомнился в этом, даже Хаслер — единственный, кто голосовал против решения. Он и впоследствии никогда прямо не обвинял Карла, будто тот из личных интересов голосовал за зачисление в штат фрейлейн Бродер, а лишь разъяснил ему, что у остальных участников собрания и у всех служащих библиотеки подобное впечатление могло создаться и опровергнуть его трудно.
Такое не начинается с утренней улыбки и вообще не начинается внезапно. Оно возникает постепенно, незримо, беззвучно, медленно. Растет изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц столь незаметно, что даже по прошествии полугода можно и не увидеть угрожающих симптомов и вести борьбу за практикантку Бродер (и против практиканта Крача) уверенно, со спокойной совестью и убедительными аргументами, продиктованными заботой не только о деле, но и о человеке. Ее познания огромны, этого никто не мог отрицать, ее трудовая мораль вне всяких сомнений, и тот факт, что она родилась и выросла в этом городе, тоже ведь следовало учесть. Не так ли? А то, что некоторых коллег задело ее суровое отношение к их халатности, не могло ведь служить контраргументом, равно как и желание некоторых молодых сотрудниц заполучить наконец в качестве коллеги мужчину. А ее работа по каталогизации не была разве беспримерной? Была беспримерной — ну, вот видите! Это вынужден признать даже Хаслер, и, чтобы не уступить, он снова вернулся к тому, с чего начал. Но теперь он остался в одиночестве: время близилось к полуночи, последние поезда метро должны были вот-вот уйти, и те сотрудницы, что вначале стояли на его стороне, устали, к тому же они не сомневались, что шеф будет спорить до утра, но не изменит своей точки зрения. И потому сдались, проголосовали за фрейлейн Бродер и, нетерпеливо щелкая замками сумочек, ерзали на стульях, в то время как Хаслер, тяжело прохаживаясь взад-вперед на своем скрипучем протезе, формулировал точку зрения, которой придерживались и они. А именно: работа народной библиотеки — разумеется, работа с книгами, но это работа для людей, и в этом смысле интеллектуальность коллеги Бродер, при всех ее преимуществах, содержит в себе и нечто негативное. «А знаешь ли ты, Эрп, что ее не любят ни коллеги, ни читатели? Правда, ее уважают уборщицы, не знаю почему, может быть, потому, что им необходимо кого-нибудь уважать и другие — более понятные — кажутся им малоподходящими для этого объектами. Я же в присутствии этой Бродер всегда боюсь, как бы не застудить душу. Такое же чувство испытывают — за некоторыми исключениями — и остальные. Может быть, то, чего ей не хватает, называется сердечностью, а без этого хорошему библиотекарю так же не обойтись, как священнику без ладана. Честно говоря, будь она тут, я бы не отважился это сказать, потому что побоялся бы ее усмешки и ее вопросов, на которые не решился бы ответить, чтобы не разоблачить перед всеми ненаучность собственных взглядов». Примерно так высказался Хаслер. Эрпу послышался упрек, адресованный ему, ибо он принадлежал к тем исключениям, кому всякий разговор с фрейлейн Бродер доставлял удовольствие.