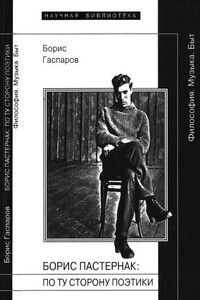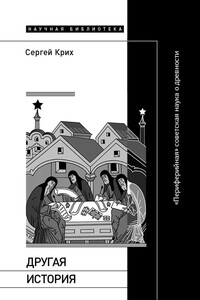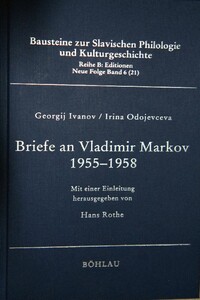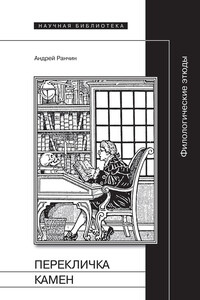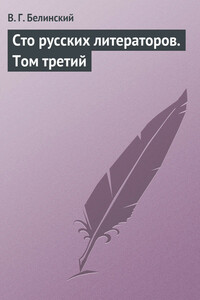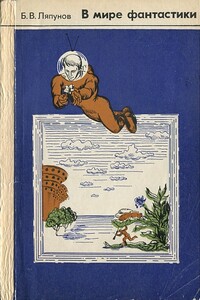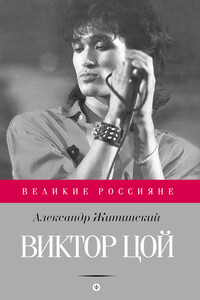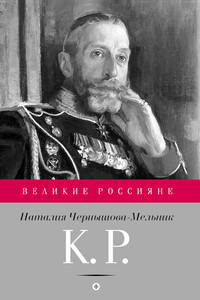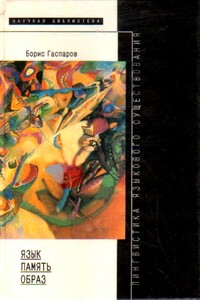Our eyes are moving all the time.
If your eyes are not moving, you are dead.
David Hockney
В книге использован ряд статей автора:
• Временной контрапункт как формообразующий принцип в романе Пастернака «Доктор Живаго» // Boris Pasternak and His Times / ed. by L. Fleishman. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1989: 215–258.
• Gradus ad Parnassum (Самосовершенствование как категория творческого мира Пастернака) // 2-е изд.: Быть знаменитым некрасиво… Пастернаковские чтения. Вып. 1. М.: Наследие, 1992. С. 110–135.
• Поэтика Пастернака в культурно-историческом освещении // Сборник статей к 70-летию Ю. М. Лотмана. Tartu: Tartu University Press, 1992: 366–384.
• Быт как категория поэтики Пастернака (к интерпретации стихотворения «Зеркало») // Themes and variations. Stanford: Stanford Slavic Studies, 8, 1994: 56–69.
• Об одном ритмико-музыкальном мотиве в прозе Пастернака (История одной триоли) // Studies in Poetics. In Memory of Krystyna Pomorska (1928–1986) / Ed. by E. Semeka-Pankratov. Columbus, OH: Slavica Publishers, 1994: 233–260.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ДЛ: Пастернак Б. Л. Детство Люверс. Цит. по изданию: Б. Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4. М.: Художественная литература, 1991.
ДЖ: Пастернак Б. Л. Доктор Живаго. Цит. по изданию: Б. Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 3. М.: Художественная литература, 1990.
ЛП: Пастернак Б. Л. Люди и положения. Цит. по изданию: Б. Пастернак. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4. М.: Художественная литература, 1991.
ОГ: Пастернак Б. Л. Охранная грамота. Цит. по изданию: Пастернак Б. Собрание сочинений в пяти томах. Т. 4. М.: Художественная литература, 1991.
СС: Пастернак Б. Собрание сочинений в пяти томах. М.: Художественная литература, 1989–1992.
ПСС: Пастернак Борис. Полное собрание стихотворений и поэм. СПб.: Академический проект, 2003.
ПССоч: Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений в одиннадцати томах. Т. 7. М.: Слово, 2005.
LJ: Boris Pasternaks Lehrjahre. Неопубликованные философские конспекты и заметки Бориса Пастернака / Ред. Lazar Fleishman, Hans-Bernd Harder, Sergei Dorzweiler. T. 1–2. Stanford: Stanford Slavic Studies 11: 1–2, 1996.
Введение: Штрихи к портрету
Летом 1907 года Пастернак писал родителям: «Я в сущности нечто вроде Святой Троицы. Индидя [A. Л. Пастернак] выдал мне патент на звание поэта первой гильдии, сам я, грешный человек, в музыканты мечу, вы меня философом считаете»[1]. Семейная шутка, экспромтом сорвавшаяся с пера задолго до поступления на философский факультет и сколько-нибудь серьезных опытов писания стихов, ненароком (по-пастернаковски) попала в самую суть его творческой личности и биографии.
Нет нужды напоминать обо всем написанном — начиная с самого Пастернака — о том ломаном маршруте, которым он пришел к поэзии. Без преувеличения можно сказать, что драматический «разрыв» с музыкой для занятий философией, и затем с философией — для поэзии прочно вошел в коллективную память как один из ярких образов культурной истории двадцатого столетия. При этом внимание естественным образом приковывается именно к моментам «разрыва», выступающим в качестве движущей силы этого увлекательного сюжета; тем более что сам Пастернак никогда не уставал подчеркивать значение всякого рода разрывов, отказов, потерь для его жизненного и творческого пути. Как показали детальные исследования, при всем внешнем драматизме (к тому же предельно заостренном в авторепрезентации), в этих кризисных моментах всегда присутствовала внутренняя логика: «отказ» каждый раз означал шаг вперед. В частности, совершенно очевидной (как я попытаюсь показать, слишком очевидной) выглядит чуждость духовному миру Пастернака сухо-ограниченной неокантианской эпистемологии: трудно себе представить, чтобы, при всех своих ранних успехах на этом поприще, он был способен всерьез ему следовать. Что касается музыкальной фазы, прошедшей под знаком обожествления Скрябина, то, приглядевшись к сохранившимся музыкальным сочинениям Пастернака, в особенности «Сонате» 1909 года[2], можно заметить, наряду с наивными «скрябинизмами» (впрочем, больше напоминающими о поздних фортепианных опусах Скрябина начала 1910-х годов), намеки на более динамичный стиль, который вскоре станет ассоциироваться с ранним Прокофьевым (первых двух сонат). Разрыв со Скрябиным запечатлен на страницах партитуры в качестве «музыкального факта»: со Скрябиным Пастернак внутренне уже разошелся (это станет явным немного лет спустя, в той отрицательной реакции, которую у него вызовет мессианская претенциозность — à la Иванов — «Прометея»[3]), стать же провозвестником новой музыкальной эпохи было не в его силах, да такая роль и вообще не подходила ему по характеру. (Быть может, именно появление на горизонте Стравинского и Прокофьева — этих музыкальных сродственников Маяковского — стояло за кратковременным и явно запоздалым порывом возвращения на музыкальную стезю в 1916 году.)
Чем лучше мы начинаем понимать внутренние причины и внешние обстоятельства, вызвавшие очередной разрыв, тем более отходит на задний план вопрос о том наследии, который отвергнутая духовная эпоха оставила (не могла не оставить) по ту сторону «отчеркнутого» отрезка жизни. Мысль Пастернака устремлена вперед, в этом смысле он — в полной мере человек авангардной, футуристической эпохи. В той же мере, в какой он стремится дать прошлому «охранную грамоту» в сфере памяти, он никогда не позволяет себе к нему возвращаться в действительной жизни. (Почти никогда: упомянутое выше внезапное возобновление занятий музыкой на Урале в 1916 году, само собой угасшее после двух-трех месяцев, можно считать исключением, только подтвердившим верность принципу необратимой проспективности жизненного опыта