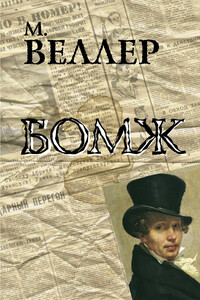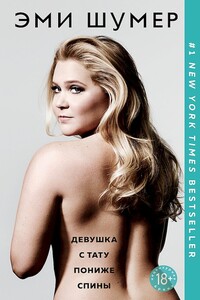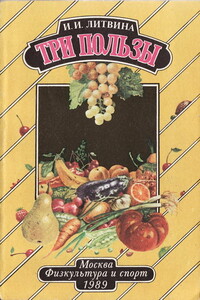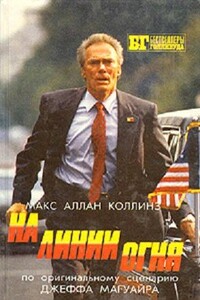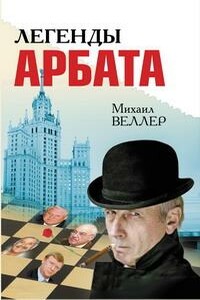Меня тошнит. Это первое ощущение, которым дает знать о себе жизнь после тягостного распада сна. Я не люблю просыпаться. Нет ничего более мерзкого и безнадежного, чем вывалиться из уютного небытия в очередной день. В теплой темноте забвения начинают вспыхивать звезды и превращаются в гнойные проколы: кольнуло в печени; заныли справа ребра; змеистая резь в желудке; наждак во рту; очередной дневной круг бессрочной каторги.
От всего кругом меня тошнит. Даже с закрытыми глазами. Это не та тошнота, которая мучительно выворачивает наизнанку, извергается вон и сменяется очищенным облегчением. Это оцепенелая ледяная тоска, пронизывающая весь организм как отрава, парализующая желания: вместо крови трупная жидкость, вместо нервов сгнившие клетки, тоска проступает сквозь кожу холодным потом, и так настигает тебя первая кара дня: ты проснулся. Здравствуй, жизнь, здравствуй, лютый зверь, здравствуй, палач неуязвимый. С добрым утром, суки, вы еще не сдохли?
Теперь надо поправить здоровье. Несчастная черта русского характера: выжрать все, что есть, ничего не оставив на опохмел. И никаких уроков из собственного горького опыта; это наша национальная черта, она сказывается во всем, но мучительное утро есть родоначало всех наших бед. Дожить до заката. В поте членов твоих, в позоре лица твоего. О, если бы я был немец! У меня всегда бы оставалось на утро сто грамм, или фунфырик, или хоть полфлакошки цветочного или лосьона; да что я говорю — у немца оставался бы баллон пива и полпачки сигарет.
Мы ненавидим кавказцев из бессильной зависти. Будь я азер, или грузин, или лучше всего армянин, они самые древние и культурные — как счастлив был бы я по утрам! Хаш! Я ел бы горячий, жирный, острый, с чесноком и травами хаш! И несколько рюмок холодной чистейшей водки!.. Да, эти люди умеют жить, и есть чему у них учиться. Если утром съесть хаш и выпить двести грамм — горы можно свернуть, жизнь в радость, ты уверен в себе, ты всему хозяин!
Я знаю, о чем говорю. Я ел хаш, едал, были когда-то и мы рысаками. Два раза. Тогда, когда… Словом, как говорил Атос, когда у меня был собственный замок.
Чу! Какое к черту «чу» в корчах головокружения, это все изыски эстетов. Ишь ты, я еще помню слово «эстет», не все потеряно. Это прогазовал на холостом синий «форд-фокус» у четвертого подъезда. Значит, без четверти девять. Пора вставать.
Почему же все так трудно. Почему же все так сложно в жизни. Я хочу пить, внутри уже все горит. И я хочу покоя, шевелиться невыносимо. Если бы можно было протянуть руку и взять — не стакан, литровую банку воды — как прекрасна была бы жизнь. Но что бы ты ни захотел — сначала самому надо это сделать, вот в чем проклятье людское. Нет мне воды под рукой. Откуда ей взяться, если я не помню, как сам-то обрубился.
Я сползаю со своего ложа — двух водяных труб в толстой изоляции поролона, обернутого рубероидом. Они теплые и мягкие. Главное — чтоб тебя тут не засекли и не навесили замки на все дыры. Да кто ж весь коллектор перекроет.
Отхожу подальше, там есть ниша такая, и справляю утренний туалет. Когда я не забуду принести сюда какой-нибудь совок или лопатку, я буду все регулярно присыпать, и тогда получится биотуалет. Нельзя же гадить там, где спишь. А где устраиваться? Город — это тебе не сад. Как представишь утром миллион одновременно гадящих — словно в гигантском сортире живешь. Идут себе все такие чистенькие, красивенькие, словно и не корячились только что, а город плывет на подземных реках их вони. Утром вообще жизнь чувствуешь через отвращение.
Еще, я вам скажу, стало плохо с газетами. В смысле очень мало выкидывают. Не читают. Интернет читают, сволочи. Компьютером не подотрешься. Туалетную бумагу я не имею в виду, платную. Когда-то, я помню, все покупки заворачивали в какую-никакую бумагу. А сейчас в пластиковые пакеты. Они скользкие. Так что я срываю всякие наклеенные объявления. Бумага всегда пригодится.
А вот теперь надо идти в другую сторону, два поворота направо, пять шагов — жестяная будочка. Дверца на поворотной задвижке. За ней — кран. Под краном — большая жестянка из-под горошка… Св-волочи! Сперли банку. Я осторожно приоткрываю кран и пью чистую, холодную, отдающую металлом воду. Перевожу дух и пью еще. Потом мою лицо, шею и руки. Пальцем протираю зубы (оставшиеся зубы, трогаю пальцем дупла, слева внизу два шатаются, но держатся пока). Умывание бодрит. Опустишься — сдохнешь. И все равно сдохнешь, если не опохмелишься. А не сдохнешь — так еще хуже.
Просто так тебе выпить никто не даст. Легенды о верной дружбе придумали в кино. Когда деньги лишние — что ж друга не угостить. Но денег здесь нет в принципе. Мы находимся на передовом крае обнищания населения. Что интересно — ребята загибаются постоянно, а передовой край не пустеет. Не то народ к этой черте подтягивается, не то черта к народу. Короче — бухло и родина едины.
На улице просить бессмысленно. Все торопятся на работу, и вид праздного алкаша только раздражает. Алкаш — алкает. Или алчет.
У магазина кучкуются такие же, как ты сам, там уже наверняка и Полковник, и Самурай, и Удав; а для покупателей еще рано.