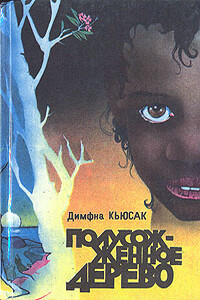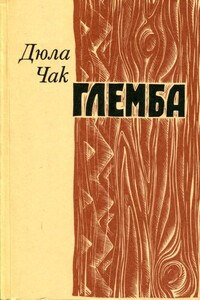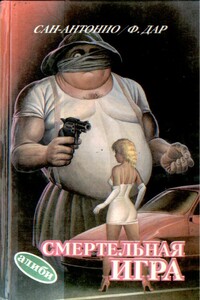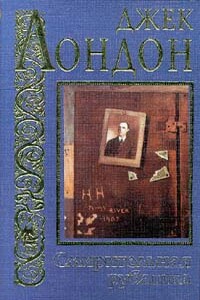Эту историю рассказали мне два старика. Когда спала жара — было это в полночь, — мы сидели в дыму костра, защищавшего нас от комаров, и то и дело яростно давили тех крылатых мучителей, которые, не страшась дыма, хотели полакомиться нашей кровью. Справа от нас, футах в двадцати, у подножия рыхлого откоса, лениво журчал Юкон. Слева, над розоватым гребнем невысоких холмов, тлело дремотное солнце, которое не знало сна в эту ночь и обречено было не спать еще много ночей.
Старики, которые вместе со мною сидели у костра и доблестно сражались с комарами, были Одинокий Вождь и Мутсак — некогда товарищи по оружию, а ныне дряхлые хранители преданий старины. Они остались последними из своего поколения и не пользовались почетом в кругу молодых, выросших на задворках приисковой цивилизации. Кому дороги предания и легенды в наши дни, когда веселье можно добыть из черной бутылки, а черную бутылку можно добыть у добрых белых людей за несколько часов работы или завалящую шкуру! Чего стоят все страшные обряды и таинства шаманов, если каждый день можно видеть, как живое огнедышащее чудовище — пароход, наперекор всем законам, кашляя и отплевываясь, ходит вверх по Юкону! И что проку в родовом достоинстве, если всех выше ценится у людей тот, кто больше срубит деревьев или ловчее управится с рулевым колесом, ведя судно в лабиринте протоков между островами!
В самом деле, прожив слишком долго, эти два старика — Одинокий Вождь и Мутсак — дожили до черных дней, и в новом мире не было им ни места, ни почета. Они тоскливо ждали смерти, а сейчас рады были раскрыть душу чужому белому человеку, который разделял их мучения у осаждаемого мошкарой костра и внимательно слушал рассказы о той давно минувшей поре, когда еще не было пароходов.
— И вот выбрали мне девушку в жены, — говорил Одинокий Вождь. Его голос, визгливый и пронзительный, то и дело срывался на сиплый, дребезжащий басок; только успеешь к нему привыкнуть, как он снова взлетает вверх тонким дискантом, — кажется, то верещит сверчок, то квакает лягушка.
— И вот выбрали мне девушку в жены, — говорил он. — Потому что отец мой, Каск-Та-Ка, Выдра, гневался на меня за то, что я не обращал свой взгляд на женщин. Он был вождем племени и был уже стар, а из всех его сыновей я один оставался в живых, и только через меня он мог надеяться, что род его продлится в тех, кому еще суждено явиться на свет. Но знай, о белый человек, что я был очень болен; и если меня не радовали ни охота, ни рыбная ловля и мясо не согревало моего желудка, — мог ли я заглядываться на женщин, или готовиться к свадебному пиру, или мечтать о лепете и возне маленьких детей?
— Да, — вставил Мутсак. — Громадный медведь обхватил Одинокого Вождя лапами, и он боролся, пока у него не треснул череп и кровь не хлынула из ушей.
Одинокий Вождь энергично кивнул.
— Мутсак говорит правду. Прошло время, я исцелился, но в то же время и не исцелился. Потому что, хотя рана затянулась и больше не болела, здоровье не вернулось ко мне. Когда я ходил, ноги подо мной подгибались, а когда я смотрел на свет, глаза наполнялись слезами. И когда я открывал глаза, вокруг меня все кружилось; а когда я закрывал глаза, моя голова кружилась, и все, что я когда-либо видел, кружилось и кружилось у меня в голове. А над глазами у меня так сильно болело, как будто на мне всегда лежала какая-то тяжесть или голову сжимал туго стянутый обруч. И речь у меня была медленной, и я долго ждал, пока на язык придет нужное слово. А если я не ждал, то у меня срывалось много всяких слов и язык мой болтал глупости. Я был очень болен, и когда отец мой, Выдра, привел девушку Кэсан…
— Молодую и сильную девушку, дочь моей сестры, — перебил Мутсак. — С сильными бедрами, чтобы рожать детей, стройная и быстроногая была Кэсан. Ни одна девушка не умела делать таких мокасин, как она, а веревки, которые она плела, были самыми прочными. И в глазах у нее была улыбка, а на губах смех, и нрава она была покладистого; и она не забывала, что дело мужчины приказывать, а женщины — повиноваться.
— Так вот, я был очень болен, — продолжал Одинокий Вождь. — И когда отец мой, Выдра, привел девушку Кэсан, я сказал, что лучше бы они готовили мне погребение, чем свадьбу. Тогда лицо отца моего почернело от гнева, и он сказал, что со мною поступят по моему желанию, и, хотя я еще жив, мне будут готовить погребение, как если бы я уже умер…
— Не думай, что таков обычай нашего народа, о белый человек, прервал его Мутсак. — Знай, то, что сделали с Одиноким Вождем, у нас делают только с мертвыми. Но Выдра уж очень гневался.
— Да, — сказал Одинокий Вождь. — Отец мой, Выдра, говорил коротко, но решал быстро. И он приказал людям племени собраться перед вигвамом, где я лежал. А когда они собрались, он приказал им оплакивать его сына, который умер…
— И они пели перед вигвамом песню смерти. О-о-о-о-о-о-о-о-гаа-а-их-клу-кук, их-клу-кук, — затянул Мутсак, так великолепно воспроизводя песню смерти, что у меня мурашки побежали по спине.
— В вигваме, где я лежал, — рассказывал дальше Одинокий Вождь, — мать моя, вымазав лицо сажей и посыпав голову пеплом, принялась оплакивать меня, как умершего, потому что так приказал мой отец. И вот моя мать, Окиакута, громко оплакивала меня, била себя в грудь и рвала на себе волосы, а вместе с нею и Гуниак, моя сестра, и Сината, сестра моей матери, и такой они подняли шум, что я почувствовал жестокую боль в голове, и мне казалось — теперь я уже непременно умру.