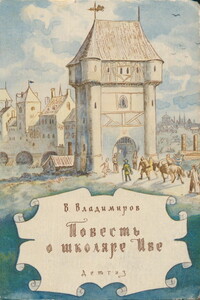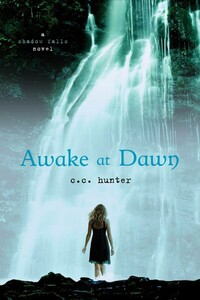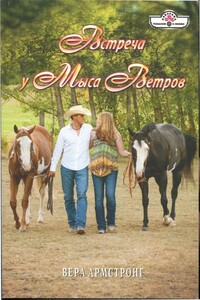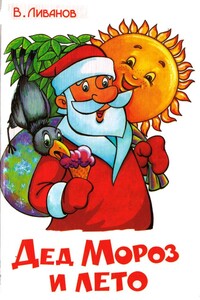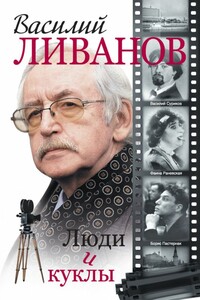Пыльные, рыжие, выжженные солнцем сопки тянулись до самого горизонта. Гул беспорядочной орудийной стрельбы висел над этим безрадостным пейзажем. Измученный конь, масть которого невозможно было определить под густым слоем желтой пыли с проступающими темными пятнами пота, едва передвигал ноги, перебираясь с сопки на сопку. На коне сидели два молодых офицера. Их лица, одежда, сапоги тоже были густо запылены.
Временами на пути попадались тела убитых, присыпанные пылью, облепленные мухами.
Конь шарахался в сторону, грязная пена падала с повода.
Передний всадник, в фуражке, поминутно останавливал коня и прислушивался к то приближающейся, то удаляющейся канонаде.
Второй сидел за седлом, обхватив своего товарища за пояс. Фуражки на нем не было, голова была обвязана широкой полоской бинта, на которую спадали пропыленные кудрявые волосы.
Первого молодого офицера звали граф Алексей Кромов, второго — Вадим Горчаков.
— Так к японцам угодить недолго, — скачал Кромов, — по-моему, наши где-то левее.
— Не фронт, а сито дырявое, — отозвался Горчаков.
Кромов тронул коня. В клубах пыли конь стал спускаться по склону.
— Вот, допрыгались… мукденские стратеги, — сквозь зубы цедил Горчаков, — сукины дети…
Из-за сопки вышел пеший. Он размеренно шагал навстречу всадникам, полы длинной шинели пылили по дороге. Вот он поравнялся с конем: жилистый, бородатый, боевые медали побрякивают в такт шагам. В руке, как посох, винтовка, на штык которой насажено два каравая хлеба. Солдат не глядел на офицеров и так прошагал бы мимо, если бы Кромов не окликнул:
— Куда, братец? Фронт наш где?
Бородач остановился. На запыленном лице светло и остро смотрели слегка прищуренные глаза.
— Зачем тебе фронт, ваше благородие? Разбили нас… С винтом или сабелькой против пушек не попрешь. Конечно — по домам!
И зашагал дальше.
Горчаков провожал его взглядом, потом рванул кобуру, путаясь в револьверном шнуре. Кромов, крутанувшись в седле, поймал его руку.
Вдруг Горчаков часто заморгал, губы его покривились.
— Он ненавидит нас… — прерывающимся голосом твердил Горчаков. — Ненавидит… ненавидит… В чем мы виноваты перед ним, Алеша?.. Скажи… скажи…
Кромов, придерживая коня, глядел вслед бородачу.
Солдат размеренно шагал, пока совсем не пропал среди сопок.
I. Июль 1909 года. Генерал Томилин
За письменным столом, заваленным бумагами и картонными папками, сидел пожилой грузный мужчина с круглой седой головой, остриженной ежиком, в усах с подусниками «а-ля Скобелев». Алексей Кромов помещался в кресле для посетителей.
Уходящий с должности генерал Томилин сдавал дела вновь назначенному военному атташе России во Франции полковнику графу Кромову.
— Ну вот… кажется, все, — задумчиво протянул генерал. — Официальную передачу должностных бумаг можно считать законченной.
Томилин стал собирать листы и раскладывать их в папки.
— Позвольте, я вам помогу, ваше высокопревосходительство!
— Благодарю. Я все уложу сам, в последний раз. Чтобы вы чего-нибудь не напутали с самого начала. Вам еще с этими бумагами придется повозиться. Еще надоест. — Генерал неторопливо завязывал цветные тесемочки на папках. — А передоверить никому нельзя: личный архив военного атташе. Головой за него отвечаете, голубчик.
Томилин улыбнулся в усы.
От нечего делать Кромов уже в который раз оглядел кабинет военного представителя России в Париже; комнату, где ему предстояло провести не один год.
Письменный стол, три кресла: одно для хозяина, два для посетителей, шкаф, большой металлический сейф — вот и все, что составляло убранство этого кабинета. Еще был камин у дальней стены от окна.
«Надо будет стол поближе к окну передвинуть, — подумал Кромов, — и кресла поставить как-нибудь по-другому, без казенной образцовости…» Словно угадав его мысли, Томилин весело пробасил:
— Вы, полагаю, захотите мебель переставить по-своему. Но предупреждаю: от окна дует неимоверно, у камина зимой угореть недолго. А кресла стоят именно так, как удобно посетителям.
Кромов рассмеялся.
Стопка папок на столе росла.
— Скажите, Алексей Алексеевич, как долго приказ о вашем назначении во Францию был на высочайшем утверждении?
— Более года, ваше высокопревосходительство.
— Оставим официальный тон. Называйте меня запросто, по-домашнему. Мы с вашим батюшкой всю русско-турецкую кампанию… Я вас еще ребенком помню.
— Хорошо, Аристарх Павлович.
— Да. Значит, более года, говорите. А знаете, почему так долго? Государю, полагаю, напомнили старую историю. Ведь батюшка ваш в свое время прямо высказал Александру Третьему свой взгляд на европейскую политику России. А царь ему на следующий день прислал собственноручную записку: «Взвесив нашу утреннюю беседу, я пришел к убеждению, что вместе мы служить России не можем. Александр». Вот так у нас бросаются честными патриотами, а потом любят за голову хвататься: «Людей нет!» — Генерал открыл сейф и стал укладывать туда пухлые папки. — Да… «Умом Россию не понять…» Мне во многих кампаниях довелось участвовать: за веру, царя и отечество — ура! А русским себя до кончиков ногтей ощутил только на Шипке…
Генерал закончил с бумагами, достал из сейфа вороненой стали револьвер, бережно провел по нему ладонью.