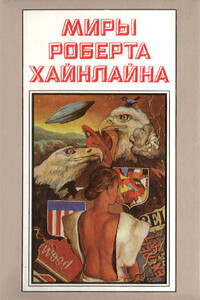Жара, Москва купается в огне распростершихся над ней африканских циклонов — и это после майского снега — везде открыты окна и, заглушая рев машин, из магнитофона несется: “…А вокруг белым-бело, и снегом замело…”.
В этих противоестественных условиях я пытаюсь писать роман…
Эту историю мне рассказал один приятель. Обычная история. Про ломки. Он рассказывал, чтобы чуть-чуть развеяться. И еще потому, что мысли были странны и вряд ли пришли бы ему в голову в других обстоятельствах. Было сильно больно, он говорил, и он что-то разглядел, что обычно не видно. Это мне показалось интересным. Впрочем, как кому.
В доме с окнами на явь —
Птицы в небесах рассвета…
Жизнь метнулась за края,
Как несчастный с парапета.
Его благополучная жизнь продолжалась год — и кончилась катастрофой. Не благополучной жизни, но всего сразу. Столько лет худого и невзрачного быта не смогли сделать того же.
В этом была и его вина… Хуже того — тысячу раз он сам торопил развязку. Теперь он понимал, как все это было не серьезно. Вообще много понял: что не надо спешить ломать тех, с кем довелось жить… Странно, он ведь знал это и раньше, кажется, он всегда знал это. Но принимал не за счастье, а за обузу, и в мистерии видел обязанность и ошибку. Вообще, банальные мысли оказываются самыми верными, а сложные конструкции распадаются. И получил то, что он тысячу раз хотел. Он попался на иллюзии ненавистного ему постоянства и собственной неуязвимости. Его слишком большие запросы железным образом привели его к разбитому корыту, под крышу дома, откуда он когда-то двинулся в путь, и если бы не уверенность в возможности временно укрыться в вине и географии — надо было бы довести сюжет до конца, потому что выход ему не виделся.
Во всяком случае сюжет, опыт… Про какие-то вещи отныне он сможет говорить не понаслышке. Если сможет их сперва пережить. В общем, он наконец столкнулся с жизнью, от которой был всегда отделен ваткой… Прежде его мучили мерзавцы и чужие. Теперь предали свои и самые близкие. Это большой опыт.
Захар стал вспоминать все, что предшествовало катастрофе, их последние два месяца, шаг за шагом.
Он гулял один по мокрому заснеженному городу, наслаждаясь лучшим собеседником, уверяя себя, что так проще всего. Ни подруги, ни знакомых, ничего, что отвлекает от созерцания бессмысленно проходящего времени. Это было весьма поэтическое настроение. Все, что с ним сейчас происходило, давало пищу, растравляло обиды, а значит, имело отношение к стихам. А это и было его теперешнее дело. Он читал стихи и о стихах, бубнил их, гуляя по ночам с собакой. Писал о них. Мир был настолько неадекватен ему, что почти фантастичен. И он был рад всему небывалому и жаждал странности и небольших неопасных взрывов.
Желание сочинять родилось в нем давно. Это была актуализация небывшего, но как бы разлитого во вселенной, проявляющегося только на уровне мысли, попавшее в книги, словно в каббалистическую ловушку. Это все-таки была свобода, зона неподчинения. И он как наркоман или истинно верующий жил в своем мире, где создание текстов важнее их публикования. Да и времена тогда были малорасполагающие к обнаружению себя в пространстве. Он хорошо помнил то время, когда реальности, собственно, не было, а была вымороченная до последней степени дрянца.
Он ни с кем себя не сравнивал, не спрашивал чужого мнения, думая, что делает свое дело. Наверное, в двадцать или двадцать пять лет это было допустимо. Но однажды наступает возраст, когда всякий русский неврастеник начинает вспоминать, что Лермонтов уже энное количество лет в могиле, а трубы славы все еще не режут слух…
Он слышал про этот кризис тридцатилетних, и что некоторые даже кончают с собой. Захар не чувствовал никакого позыва к этому. Близость смерти и отчаяние вдохновляли его, но скорее как опасный инструмент, чем как единственный выход. Наоборот, он был уверен, что все делает правильно. И если бы не Оксана…
…Оксана иногда очень скептично на него смотрела. И при этом хотела, чтобы он просматривал ее материалы и критиковал (а лучше хвалил). Кое-что они даже делали вместе. Отчасти в угоду ей, отчасти из-за возможности хоть что-то заработать он стал окучивать журналистику. Дело это было немудреное и довольно приятное. Суть была в правильном соотношении фактов, дерзости и блефа, чтобы получалось неглубоко, но ярко. Труды его вызывали определенный интерес, и он то возомнивал о себе что-то, то впадал в уныние. Ибо не прекращались звонки ее знакомых мужчин, писателей, издателей, коллег, и Оксана часами выслушивала их похмельные исповеди — где, с кем и почему они пили, с кем спали, и кто их обидел — учила жизни, объясняла женскую психологию (тем, кто интересовался не мальчиками), уговаривала не расстраиваться (тем более, что поводы всегда были смехотворны). Они приглашали ее в гости, в кафе, в путешествия, открывали ей свои замысловатые сердца. Она забавлялась и наслаждалась всем этим, как редким блюдом. Да, эти воркования могли длиться часами, а Захар сидел в другой комнате, совершенно забытый. И это была лишь верхушка айсберга: Захар мог вообразить, что творится на работе. После этих разговоров Захар испытывал глубокое чувство неполноценности.