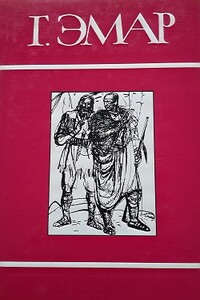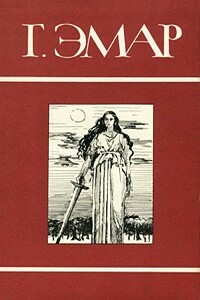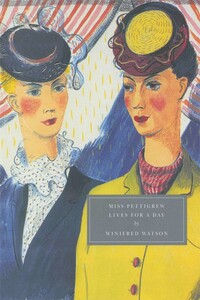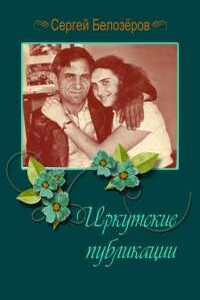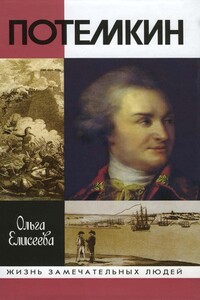Июнь 1812 года. Западные губернии.
Государь отпустил его легко. Улыбался, щурил подслеповатые глаза, хвалил за исполнительность. Но не звал с собой в Москву, где намеревался «энергичным, исполненным веры в победу манифестом возбудить энтузиазм жителей».
Спору нет, Александр Христофорович и сам бы не покинул сейчас армию. Но была бы честь предложена. А ее стоило предложить. Ведь без таких, как он, разорванные на части русские войска едва ли соединились бы под Смоленском[1]. И Бенкендорф заслужил, если не новую полосатую ленточку, то хоть упоминание в приказе. Но кто же благодарит курьеров? Живы – и слава Богу! Голова на месте, сумка на боку – скачи, пока не подстрелят.
Они и скакали. Но прежде…
Все помнили комету. Небывалую жару. Горящие леса и нивы. Целые деревни проваливались под землю, в которой истлевал вонючим дымком торф. Говорили, будто у француза тоже беда: такой урожай красного винограда, какой крестьянам ни снять, ни выжать. Струйки из давилен текли по земле – к большой крови.
Полковник Федор Глинка[2] описал синюшную тучу над Неманом, мол, гроза, гроза!
Шурка ничего этого не видел. Он до последнего топтался в свите. Но флигель-адъютантами не дорожили и, когда в декабре одиннадцатого, посерёд мороза, запылал Аничков дворец, зачем-то послали в оцепление. Загнали с полковником де Сен-При аж на чердак. Хороша служба! Погорели бы оба. А ведь разумные командиры, не без опыта, не без наград. Кому и зачем понадобилось ими жертвовать?
Бенкендорф давно перестал интересоваться смыслом распоряжений, доискиваться логики, тем паче – требовать объяснений. У кого? У государя?
Это по молодости, по глупости хочется понять. А потом наступает отупление, полное равнодушие. И чем больше знаешь, чем больше видел, тем оно шире и всеохватнее.
Когда балки стали падать, адъютанты пробились к двери. Сен-При еще шутил – француз. Выскочили на белый снег. Лестница уже оседала, а в дверные проемы хлестало пламя, подгоняемое ветром. Из распахнутых окон второго этажа выбрасывали целиковые зеркала. Осколки разлетались картечью, и де Сен-При задело руку.
Тут прибыл Его Величество, ужаснулся нелепости происходящего, приказал выводить всех, кто еще остался. Имелись и задохнувшиеся в дыму – не смели покинуть пост.
Бенкендорф перетянул товарищу руку носовым платком, и оба поехали обедать. Провели вечер за бутылкой красного, забыли о печалях. Но в ту же ночь Александр Христофорович написал другу Воронцову: «Мне тошно. Винить, кроме себя, некого. Урок, данный судьбой, жесток, но полезен. Разговоры о моей женитьбе больше не будоражат общество[3]. Надеюсь, на сей раз молодость покинула меня безвозвратно».
Ждал ли он войны? Конечно. Но не думал о ней. И даже пожар во дворце не назвал великим предвестьем. Спаслись же! Стало быть, пронесет.
Не всех.
Ибо чаша уже была налита красной французской бурдой пополам с мерзлыми водами Немана, и держала ее Блудница верхом на Звере, кометой мчавшемся по небу.
Январь 1817 года. Харьков.
Утро было ясным. Накануне валил снег, а сегодня белое холодное солнце сверкало на выстуженном, блекло-голубом небе. Легкий дымок от сдуваемой с сугробов пыли кружил в воздухе. Ударяя в него, свет искрил всеми цветами радуги, как если бы зеркало разбили на тысячи осколков и пустили по воздуху. Береги глаза!
Народу на катании собралось, почитай, весь город. Шубы, салопы, купеческие шали в цветах, меховые капоры и самые изысканные шляпки парижского образца, по-домашнему подбитые ватой. Бенкендорф одернул себя: он смотрел только на дам, а вернее, искал одну из них, в то время как ему строила «куры» добрая дюжина встреченных на балу в Благородном собрании голубок.
В прежние времена… Да, в прежние времена он не преминул бы отметить каждую в анналах сердца и мысленно составить список: с кем, когда, где и как предпочтительнее было бы встретиться. Теперь его интересовала одна интрига. Одна женщина. Одно где и как.
Постарел? Устал? Остепенился?
Какие еще слова подходят для определения заветного возраста, когда все болит, вспомнить, кроме затяжного похмелья, не о чем, и охватывает острая ненависть к казенным квартирам?
Если госпожа Бибикова[4] его сейчас же не подберет, он пропал. Совершенно пропал!
Картина будущей гибели представлялась в подробностях. Перестанет отвечать на письма. Бросит следить за интендантами. И сопьется. А что еще делать в Гадяче? Ведь его не вернут в столицу. Государь не хочет. Даже в Киев. Даже в Харьков. Торчи под Полтавой, карауль новых шведов!
Ни книг, ни театров. Грязь, дичь, всякого рода пошлости. Уже друг Воронцов писал из Парижа: «Скажи, ради Бога, в каком обществе ты вращаешься? Ты делаешь ошибки по-французски». Эта наглость так разозлила Александра Христофоровича, что он сказал все, что накипело. «Общество? В Гадяче? Да ты смеешься!» И присовокупил несколько слов, записанных латиницей, но имевших русские корни. Ну да Миша простит. Поймет, что с налитых глаз.