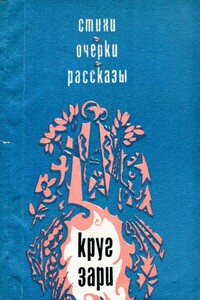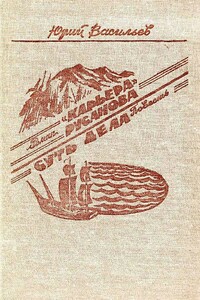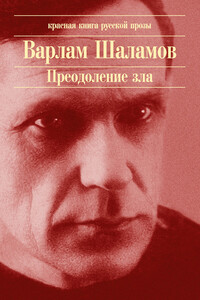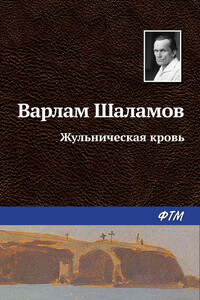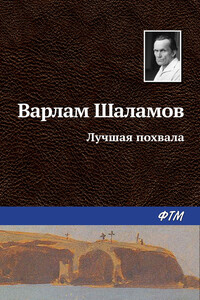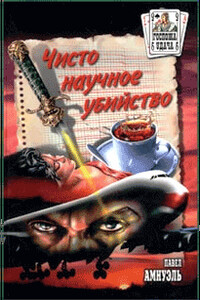Дождик, дождик, пуще!
Старинная детская песенка
Дождь — не от слова ли «даждь»? Дай, подай, подари. Дождь, дожди, дождичек, задождило. Обложные дожди. Накрапывает, моросит, льет как из ведра. Теплый ночной дождичек — открыть окно — шуршит в крапиве, в листве деревьев… А то еще совсем прозаическая фраза из школьного учебника для четвертого класса: «Круговорот воды в природе».
Эта казенная фраза всегда была для меня исполнена глубокой поэзии. Когда я повторял ее то про себя, то вслух по нескольку раз, мне казалось, что этой фразой можно назвать книгу стихов, поэму. «Круговорот воды в природе, круговорот воды в природе», — твердил я, и одновременно рисовались мне сквозь стеклянную прозрачность слов (как одновременно мы видим, что лежит за большим стеклом витрины и что на нем отражено) белые кучевые облака, плывущие, словно паруса, по синему летнему небу. Потом начинает синеть, темнеть, наливаться лиловой чернотой один край неба, начинает тянуть оттуда прохладой и влагой, свежий ветер неожиданными короткими порывами тревожит листву, и вот уж половина небесной сферы занята нависающей и как бы несущей угрозу тучей, и начинают ударять молнии сверху вниз, и первые крупные капли свертываются в шарики в дорожной пыли, прежде чем хлынет, освежит, напоит, омоет; потечет ручьями, засверкает лужами, засветится на траве и листьях, после того как туча уже прошла над нами и поливает теперь земли других деревень и сел. Начинает все куриться легким парком, испаряется, обсыхает, возносится кверху. Круговорот воды в природе… Вода журчит ручьями, грохочет водопадами, горными реками (талые ледниковые воды), бухает океанскими прибоями. Отражает небесную твердь и землю лесными озерами, большими прудами, тихими омутами, отстаивается глубоко в недрах неведомыми нам подземными хранилищами воды, размеренно капает за веком век с причудливых сталактитов в пещерах, выбивается к солнцу родниками, ключами, голубеет и зеленеет айсбергами, выпадает на зеленые растения то инеем, то росой… Но при всем разнообразии форм и движений земной воды есть у нее два неотвратимых пути: подняться вверх, в небо, и пролиться опять на землю. Конечно, прежде чем пролиться, поплавает облаками и тучами, где обнадежит, а где, возможно, и напугает.
Однако в наших местах, в средних, как говорится, широтах, как бы угрожающе ни нависала туча, какой тревоги ни внушала бы нам, жителям средних широт, не боимся мы ни грозы, ни дождя, знаем, что ни тропических наводнений, ни тайфунов не принесет нам туча. Дождь у нас почти всегда благо. И боимся мы воды не в грозных и грохочущих проявлениях, а скорее в виде мелкого и занудного ненастья.
Я раздумался про все эти дожди (а можно было бы теперь их живописать и живописать, потому что мало ли я видел их разных), я раздумался про все эти дожди, когда по прошествии многих лет вспомнил один забавный эпизод, связанный с дождем. Эпизод тогда еще показал мне, сколько может стоить один хороший майский дождь.
У Петра Потаповича Кузьменко, которого по выразительности отчества все называли просто Потапычем, было свое отношение к дождю. Небольшой осколок, залетевший во время войны в мякоть бедра, остановился там около какого-то нерва и вот теперь сидит там, оброс мясом и, вообще-то, не мешает Потапычу ни ходить, ни двигаться, ну, там, ворочаться с боку на бок, спать на правом боку, придавливая осколок всей тяжестью своей полноватой уже к шестидесяти четырем годам комплекции. Можно было бы и совсем забыть про злосчастный осколок, если бы он сам не напоминал о себе всякий раз перед сменой погоды.
В небе — ясное солнышко, вокруг — летнее тепло, сухие дороги, по которым шныряют межколхозные автомобили и мотоциклы, поднимая дымовые завесы, медленно рассеивающиеся и оседающие на придорожную землю, припудривая травы и злаки. Ничто как будто не предвещает никакой перемены, и барометр показывает устойчивое равновесие в атмосфере, и сводки погоды в газетах и по радио — все в один голос пророчат постоянство погоды, а у Петра Потаповича свой барометр.
На фоне, по-современному выражаясь, полной безмятежности и ленивой разморенной благодати во всем теле, при полном отдыхе, опять же по-современному говоря, каждой клеточки организма вдруг кольнет в урочной точке бедра. То ли повернется там осколок другим боком, то ли мясо само вокруг него, скажем, набухнет и плотнее его обожмет, то ли прижмет его к нерву — Петр Потапович не воображал всей точной механики, — но только кольнет и кольнет. Это начало. Потом появляется постоянная ноющая боль. Неприятно, но терпеть можно. Нытье, как по проволоке, растекается в обе стороны, то есть вверх до паха, до тазовой кости, даже и в поясницу будто бы отдает, и вниз до лодыжки, до ступни. Так иногда разболится, что приходится прихрамывать.
Ну, значит, жди, на девятый день сломается погода, и теперь, что бы ни писали в газетных сводках, что бы ни внушали по радио, Потапыч только посмеивается: «Мелите, мелите, я-то лучше знаю, что будет».
Само по себе — обыкновенное дело. Мало ли стариков с разными ревматизмами, у которых ноют в ногах суставы, у которых разламывает поясницу к дождю, мало ли операционных швов, старых ран и культей напоминают о себе к затяжному ненастью. Но ведь это все за день, за два, это не мудрено. Потапычев барометр срабатывал за девять дней, а в этом-то и была его редкость.