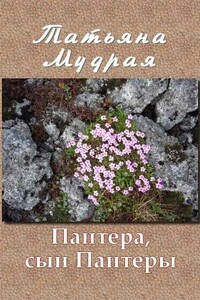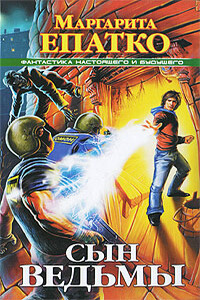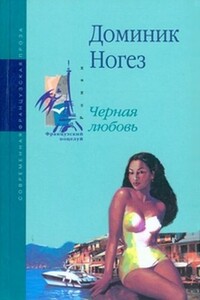Каждый человек убивает то, что любит.
Оскар Уайлд
Становится просто опасно умирать сейчас, когда больше нет Бога.
Морис Рош
Exegi monumentum aere perennius.
Horace>[1]
Вот уже по крайней мере два столетия в нашем городке не случалось столько смертей за такой короткий срок (в мирное время, разумеется). Я, конечно, понимаю, что в течение последних двадцати лет в большинстве городов жизнь не стала безопаснее, но посудите сами: два серийных убийства, одно за другим, в одном и том же месте, не говоря уже об остальном: как-никак двадцать восемь убийств, шестьдесят три исчезновения и десятки вскрытых могил меньше чем за год в городке с населением в каких-нибудь пятьдесят тысяч человек — это вам не пустяк!
Мне довелось оказаться невольным свидетелем некоторых эпизодов этой драмы. Мне даже удалось, причем уж вовсе случайно, раскрыть загадку происходящего. Я не испытываю особой гордости по этому поводу и приступаю к своему повествованию не без некоторой печали, главным образом из-за той участи, которая постигла в этой истории одного из моих соседей и друзей — настоящего аса в области танатопрактики и добрейшей души человека.
Прежде всего оговорюсь, что не очень хорошо представляю себе значение слова «танатопрактика». Поскольку в лицее я немного учил греческий, я понял только, что корень происходит от слова «смерть». Но, во всяком случае, это слово ну никак не вязалось с обликом моего соседа — уж слишком оно научное и сложное. Не то чтобы мсье Леонар казался слишком простым, но он был таким благовоспитанным, словно всю жизнь прожил под сводами старинного замка, в окружении голубей и старых книг. Для меня воистину невозможно было вообразить его себе за столь неромантичным и, откровенно говоря, столь презренным занятием. Однако людей с подобной профессией немного — в том числе и у нас в Оксерре. Худо-бедно, но каждый год умирает сотни четыре граждан — примерно каждый сотый. И даже тем, кого сжигают в крематории, потому что такова была их воля, указанная в завещании, или потому, что такие похороны дешевле обходятся, все равно нужно навести красоту, перед тем как отправлять их в огонь.
Правда, на двери мсье Леонара не было никакой таблички с указанием его ремесла. И еще меньше говорил об этом вид его квартиры — кокетливо обставленной, с кружевными занавесками на окнах и геранью на подоконниках. Он жил на втором этаже, а я — на третьем в доме напротив, поэтому я мог видеть кое-какие детали обстановки, когда он открывал окна — впрочем, это бывало не слишком часто. Нас разделял только маленький внутренний дворик. Он обычно бывал пуст, за исключением воскресений, когда дочь и зять консьержки приходили к ней обедать, а после десерта выпускали своих детей-близнецов поиграть в мяч — что порядком раздражало мсье Леонара.
Меня же это не беспокоило, поскольку происходило обычно в то время, когда ко мне приходила Эглантина, а тому, чем мы занимались, доносившиеся с улицы звуки, в общем, не мешали — особенно когда она завела привычку включать техно во время наших постельных схваток. «Это заглушает», — объясняла она (слово «это» она произносила в два слога: «Э-то», как истинная дочь преподавателя).
Наверное, нужно объяснить, что я делал в то время в Оксерре, на славной улочке Тома Жирардена. По сути, я делал два дела одновременно. И даже три, если добавить мои старания жить в мире и согласии с Эглантиной. Официально я готовил рекламную брошюру для «Flow» — шотландского банка, пожелавшего внедриться на континент, — в которой было штук тридцать разделов о «выгодных и сугубо индивидуальных вкладах», рассчитанных на наиболее характерные типы представителей среднего французского городка на рубеже XXI века. Впоследствии брошюру предполагалось разместить в Интернете. Кроме того — и, признаться, с гораздо большим увлечением, хотя лишь с единственной целью: слегка развеяться и заинтриговать моих друзей, — я занимался небольшими историческими изысканиями на тему «событий, произошедших впервые» в течение последнего столетия: каким был фильм, впервые показанный на экране, когда была изобретена «блошиная карточка», когда «Монд» впервые напечатала слово «член» и т. д.
Но Эглантина, сама того не желая, все разрушила. Точнее, не она, а ее кот, Клемансо (это имя он получил за свои тигровые полосы — тот, в чью честь его назвали, имел прозвище Тигр).>[2]
Она приехала ко мне на пасхальные каникулы и привезла с собой Клемансо. Ласковый был кот, но — себе на уме. И очень обидчивый — целый день мог просидеть, забившись под кухонную раковину, среди бутылок с чистящими средствами и жидкостью для мытья посуды («Пэк» с запахом лимона), потому что его на ночь выставили из спальни. На этот раз, после долгих поисков, Эглантина обнаружила его на карнизе одного из окон мсье Леонара. Как он туда залез? И вот теперь Клемансо сидел на карнизе с чрезвычайно удрученным видом и отчаянно мяукал, не зная, как слезть. Эглантина спустилась во двор и нажала кнопку домофона, рядом с которой стояла фамилия мсье Леонара. Ответил глубокий и немного тягучий голос с легким акцентом. Эглантина в двух словах объяснила суть кошачьих злоключений. «Второй этаж, налево», — лаконично ответил голос. Когда моя подруга поднялась по лестнице, хозяин квартиры уже ждал ее, стоя в домашнем халате за приоткрытой дверью. Не говоря ни слова, он впустил ее. Пока моя подруга смущенно бормотала, посвящая его в более или менее необходимые подробности, он провел ее по длинному полутемному коридору, потом открыл какую-то дверь. «Это здесь, — сказал он. — Я бы лучше вызвал пожарных. Сам я ужасно боюсь кошек: мне все время кажется, что они меня оцарапают». Комната оказалась довольно просторной ванной, столь же залитой светом, сколь темной была остальная часть квартиры. Сквозь стекло, матовое до середины, Эглантина различила силуэт Клемансо, а напротив и чуть выше — мои окна. Она ласково заговорила с котом, прежде чем открыть окно, — мсье Леонар отказался это сделать сам. Кот наконец перестал орать. Он даже не стал дожидаться, пока Эглантина его схватит: как только окно приоткрылось, полосатый сам заскочил в комнату, заставив хозяина квартиры невольно вскрикнуть, а затем шмыгнул в коридор.