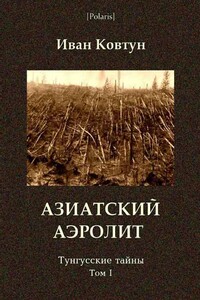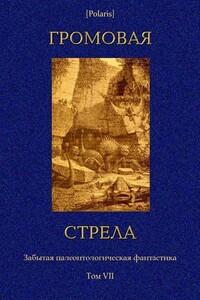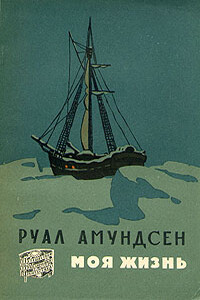«Итак, товарищ Марич, придется тебе признать, что любовь — хотя и физико-химический процесс, хотя и комплекс рефлексов, но процесс чертовски сложный, а рефлексы до крайности запутаны и не желают подпадать ни под какие законы торможения.
К тому же, когда твоя любовь, явление по сути здоровое и нужное, — становится хронической, тогда она превращается уже в явление болезненное и влечет за собой глухую неприятную боль и тоску. Так-то, товарищ Марич! Вот кажется, что бурные революционные годы должны были если не погасить твою необычайную любовь, то хотя бы приглушить ее. И глянь — приглушили? Эх, себя не обманешь, Марич! Почему ты, отправившись в научную командировку, выбрал именно Нью-Йорк — можно ведь было поехать и в Чикаго? И еще: отчего ты каждый день изучал с таким волнением все мюзик-холловские афишки? А также — с чего бы это всегда ровные и спокойные мысли научного работника вдруг стали такими растрепанными и странными, а глухая тоска не утихала с тех пор, как ты сел на «Атлантик»? И хуже того — она, тоска, день ото дня росла и достигла сейчас кульминационной точки. Еще минута и ты, товарищ Марич, начнешь делать глупости».
…Коммунист Марич — молодой научный сотрудник Всесоюзной академии — растерянно стоял в час дня на Бродвее и, не замечая вокруг ни шума, ни грохота, ни пинков, что щедро сыпались на него со всех сторон, пытался иронизировать над своим незавидным положением.
Он давно уже привлекал к себе внимание прохожих, которые искоса поглядывали на него и незаметно усмехались, не понимая, как здоровый человек может так спокойно и равнодушно стоять на центральной улице Нью-Йорка да еще в час дня, когда любая минута стоит доллары.
«А все из-за чего? Из-за какой-то мюзик-холловской певички!..»
Эта мысль, как острая боль, встряхнула Марина. Только тогда он вспомнил, что стоит пугалом посреди запруженного человеческими телами Бродвея. Покраснев, смял небольшую афишку «Колумбии», двинулся с места и влился в поток, который понес его на платформу элевейтора[1].
Через минуту Марич втиснулся в вагон и, не успев опуститься на скамью, вновь погрузился в свои мысли.
Он смотрел в окно и не замечал, как мимо вагона проплывали кварталы за кварталами. Не будь проклятой боли, Марич увидел бы, как вскоре резко изменилось лицо Нью-Йорка: мимо вагона уже пролетали серые пригороды, время от времени можно было разглядеть убогую внутренность комнат, развешанные лохмотья и полураздетых женщин, возившихся у плиты.
«Проклятая, глухая боль!»
«Да, Марич, себя обмануть трудно. Мюзик-холловская певичка встает в твоих воспоминаниях как товарищ Гина, единственная, любимая девушка — помощник и подруга буйных лет твоей молодости. Ничего не попишешь — любовь, к сожалению, штука капризная».
Марич откинулся на спинку скамьи. «Все же стоило бы ее повидать. Прямо абсурд — быть здесь, рядом с бывшей женой, и не увидеть ее, не узнать ничего о ее жизни. Как она теперь? До сих пор с этим Эрге? Обязательно нужно повидаться».
Эти мысли успокоили его, и Марич решил сойти на первой же остановке и вернуться в отель.
Безупречно выбритый лакей в черном сюртуке переломил надвое свое резиновое туловище, выпрямился и учтиво склонил прилизанную голову с ровным пробором.
— Корреспонденция на столе, мистер. За время вашего отсутствия кто-то спрашивал по телефону номер комнаты. Приказания будут?
Марин устало направился к столу.
— Благодарю, можете идти.
Приблизился к кипе газет и журналов, ища глазами конверты. Писем ниоткуда не было, и он принялся расхаживать по комнате. Когда проходил мимо большого окна, машинально остановился, оперся о подоконник и застыл в молчаливой неподвижности. За окном (Марин занимал номер на двадцать пятом этаже) широко разворачивалась серая клетчатая панорама остроугольных небоскребов, справа синел Гудзонов залив, усеянный баржами и катерами.
Марин всего этого не видел. Снова думал о Гине. Воспоминания вертелись вихрем, больно и гнетуще сдавливали голову.
«Удивительно, невероятно странно. Что ж она, наконец? Сомнений же нет, что любила. Нельзя ведь прихоти ради пойти в Сибирь, в тайгу за студентом-ссыльным. Бросить все, отречься от дома, от родителей — это не жест, а глубоко обдуманный поступок».
Он тогда чуть с ума не сошел от радости — это было почти чудо. И как трудно, невозможно даже вытравить все из памяти. Каторга превратилась в какое-то безграничное, безоблачное счастье. Те два года были едва ли не самыми яркими в его жизни, за них он не колеблясь отдал бы десяток обычных лет.
И после вдруг другой поступок, граничащий с безумием. Встреча (одна-единственная встреча) с чужим человеком, которого она увидела впервые в жизни, человеком обыкновенным, самым заурядным, и все полетело кувырком, как фанерный детский домик. Как он мог расценивать этот поступок там, в тайге? Казалось, ему снился тяжелый и страшный сон, когда подсознательно с нетерпением ждешь конца сновидения, чтобы облегченно вздохнуть. Но конца не было.