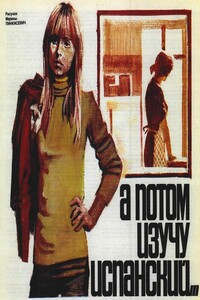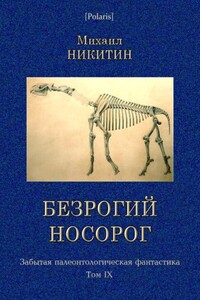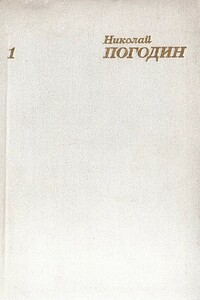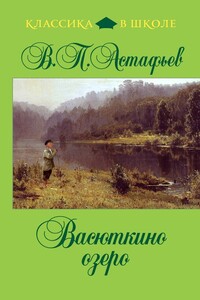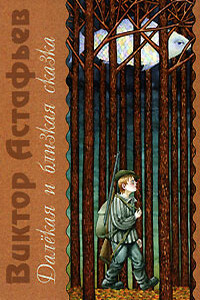Весной сорок четвертого года наша часть после успешного наступления заняла оборону. Мы окопались на давно не паханном поле. Выдолбили ячейку для стереотрубы и вывели траншею в ближний лог, где еще лежал серый, как пепел, снег и росла верба.
Чуть влево раскинулась небольшая деревня. Население из нее эвакуировалось в тыл. Когда расцвели сады, эта деревня, облитая яблоневым и вишневым цветом, выглядела особенно пустынно и печально. Деревня без петушиных криков, без мычания коров, без босоногих мальчишек, без песен и громкого говора, даже без единого дымка и вся в белом цвету – такое можно увидеть только на войне. Лишь ветер хозяйничал на пустынных улицах и во дворах.
Он приносил к нам такие запахи, от которых мы впадали в грусть или в отчаянное веселье и напропалую врали друг другу о своих любовных приключениях. Выходило так, что у каждого из нас их было не меньше, чем мохнатых шишечек на той вербе, что распустилась в логу. Многие бойцы нашего взвода попали на фронт прямо со школьной скамьи или из ремесленного училища и, конечно, желали любить и быть любимыми хотя бы в мечтах. Должно быть, потому-то старшие товарищи никогда не уличали нас в этой, если так можно выразиться, святой лжи! Они-то знали, что некоторым из нас и не доведется изведать невыдуманной любви.
А весна все плотнее окружала нас, звала куда-то, чего-то требовала. Ночами лежали мы с открытыми глазами и смотрели в небо. Там медленно проплывали зеленые огоньки самолетов и помигивали такие же бессонные, как и мы, звезды. Притаилась война в темноте, залегла. Даже слышно, как быстро и слитно работают в дикой, реденькой ржи кузнечики, а в логу, должно быть на вербе, неугомонная пичужка, будто капельки воды из клюва, роняет: «Ти-ти, ти-ти». И похоже это на: «Спи-те, спи-те». Да какой уж тут сон, когда в душе сплошное беспокойство, оттого что сады цветут, когда бесчисленные кузнечики, будто надолго заведенные часики, отсчитывают минуты и целые весенние вечера, уходящие безвозвратно.
Пальба на передовой была лишь в первые дни, а потом как-то сама собой угасла, и только изредка поднималась заполошная перестрелка или хлопал одинокий выстрел, вспугивая вешний перезвон птиц. Солдаты отоспались и теперь с утра до вечера строчили письма, смотрели затуманенными глазами туда, где нет окопов и траншей – дальше войны.
Иногда на передовой появлялась агитмашина и, когда опускалось солнце, над окопами разносился голос сдавшегося в плен арийца. С усердием уцелевшего на войне человека он призывал своих братьев последовать его примеру. Не знаю, как фашисты, а мы со страшной досадой слушали эту агитацию. Длинно говорил немец, а мы считали, что лучший оратор тот, который укладывает свою речь в два слова:
«Гитлер – капут!»
Немцы тоже вывозили на передовую свою агитмашину. Теперь уже пленный, Иван, в глаза которого всегда хотелось взглянуть в эти минуты, конфузливо спотыкаясь, пространно уверял нас в том, что на немецкой стороне не житье, а рай, и что неудачи их, дескать, временные, и что Гитлер уже двинул на восток «новое» секретное оружие…