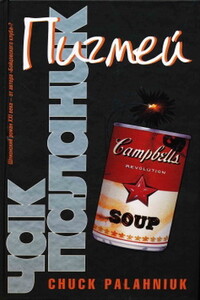Настойчивое желание писать, заниматься литературным трудом навязчиво преследовало меня вот уже несколько лет, несмотря на почтенный возраст и скептическое отношение к этому занятию.
Поэтому в первых строках хочу осмыслить причины такой запоздалой страсти и обосновать их возможному читателю и самому себе. Жизнь в изобилии придумывала многочисленные предлоги и оправдания, позволявшие в очередной раз отложить, отодвинуть на завтра начало моих писаний: болезнь, поездки на отдых, ремонт автомобиля и даже колка дров и работа на огороде спасительно отодвигали желанное и одновременно пугающее занятие. Инстинкт, тем самым, спасал от вероятного разочарования и возможности отказаться от сладкого предвкушения заняться писательским творчеством. Человеческая психика, видимо, так устроена, что предвкушение желанных событий, ещё не состоявшихся, иногда сильнее и слаще, чем сами события.
Так, я неоднократно замечал, что размышления о предстоящей рыбалке, сборы, подготовка снастей, точка крючков, заготовка подкормки, наживки, выбор маршрута и способов лова зачастую чуть ли не желаннее, чем сам процесс рыбалки.
Далее я постараюсь неоднократно в своих текстах опираться на любимую тему о рыбалке, которая вошла в мою жизнь неразрывно и органично и является сильным катализатором[1] самой жизни.
Профессиональные литераторы, писатели не раз советовали в своих книгах и интервью: если у тебя есть возможность не писать, то лучше не пиши. Этим советом я и пользовался, но, учитывая, что жизнь практически прожита и отступать некуда, решился взяться за «перо».
Однажды в детстве, когда мне было лет семь-восемь и наша семья проживала в Карелии, в городе Петрозаводске, я сидел на холме, поросшем свежей зелёной июньской травой, внизу блестела вода речки Лососинки, в которой я только что удачно ловил краснопёрую плотву. Вдруг необъяснимый порыв заставил меня вытащить из внутреннего кармана куртки свёрнутую трубкой школьную тетрадку, расправить её на колене и огрызком карандаша запечатлеть восторг и радость от окружающей природы, свежего яркого лета, удачной рыбалки, от переполнявшего меня необъяснимого счастья. Помню точно, что это была проза, а не стихи, что само по себе было удивительно, и когда на следующий день я прочитал текст, разочарования не было, напротив, бацилла писательства утвердилась во мне.
В отрочестве, в юности периодически я брался за перо (в то время ещё писали металлическими перьями, макая их в чернильницу), и рождались неуклюжие стихи и реже — проза. Но суровый саморедактор был беспощаден к этим творениям, и они безнадежно валялись в «долгом» ящике, пока уже в зрелом возрасте я не сжёг эти тетради в печи.
Мои самые ранние, смутные воспоминания детства безрадостны, темны и тоскливы: тусклый электрический свет, мигающее пламя керосиновой лампы и запах керосина, серые морозные сумерки, скрип саней, на которых меня везут куда-то, сугробы, метель, холод, больничные палаты, запах дезинфекции.
Я родился в конце мая 1942 года. Если отсчитать девять месяцев назад, то получится, что моё зачатие произошло в сентябре 1941 года, когда уже семьдесят дней Вторая мировая война безжалостно перемалывала судьбы людей на территории СССР.
Наша страна находилась на дне самого значительного и глубокого за всю войну катастрофического провала. Уже были миллионы пленных и убитых солдат и мирных граждан, уже полностью развеялись ожидания скорой и бескровной победы, ещё не было военных успехов, уже свирепствовали голод и всеобщая неустроенность. Поэтому через десятки лет я невольно ощущаю жуткий страх и отчаяние мамы, обнаружившей и проклинающей свою беременность и меня вместе с ней. И только благодаря суровому запрету абортов Великого Вождя народов, моего заочного отчима, вопреки здравому смыслу, вопреки ужасу мировой катастрофы я все же появился на свет. Но этот ужас, необъяснимый, интуитивный, подсознательный, впитанный с молоком матери, преследует меня всю жизнь.
Со временем это давящее ощущение катастрофы сгладилось, отошло и затаилось в глубине тёмного космоса и окружающего мира. Но я каждую секунду знал и знаю, что этот страх и ужас где-то недалеко, в параллельном пространстве, и в любую секунду может проявиться в моей жизни. Впрочем, это ощущение скрытой космической вселенской угрозы и опасности невольно придавало мне жизненную стойкость и сопротивляемость перед всеми прочими угрозами и несчастьями, ибо любая беда на фоне уже пережитых ужасов выглядела мелкой неприятностью. Окружающие взрослые, учителя принимали эту видимую стойкость за глупое упрямство, за скрытое издевательство над их воспитательными приёмами. «Извинись, проси прощения, признай свою вину, объясни, что происходит», — давили взрослые на провинившихся детей. Мои приятели и одноклассники чаще всего огорчались, волновались, плакали, просили прощения. Ведь совсем несложно сказать: