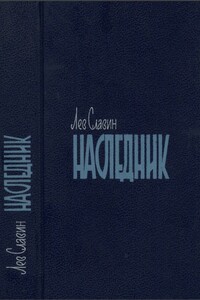Лев Славин, представьте, претендовал на то, чтобы слыть счастливчиком. Иной раз совершенно серьезно: «Судьба благоприятствовала мне. Проведя четыре года на войне, я увидел конец ее в Берлине». Порой же с явной иронией: «Вел жизнь тихую, размеренную, участвовал в четырех войнах, из коих две мировые, а в свободное от них время писал».
Фраза чисто славинская — «тихая, размеренная», а в глубине своей таящая и улыбку, и мудрость, и грусть.
Он и свои воспоминания об Андрее Платонове начал словами: «Есть писатели легкой судьбы. А есть — трудной…», словно бы стесняясь собственной, того, что уцелел во всевозможных передрягах эпохи, в отличие от многих современников и близких друзей.
Поэт более позднего поколения написал однажды: «Умирают мои старики, мои боги, мои педагоги…» Большинство же славинских друзей и ровесников, с которыми он вступал в литературу и у которых порой учился, уходили, не успев состариться: Эдуард Багрицкий, по свидетельству Льва Исаевича, знавшего его еще по Одессе, «мощно повлиявший на всех молодых писателей, соприкасавшихся с ним», Михаил Кольцов, благословивший первый московский «дебют» Славина, Илья Ильф, Исаак Бабель, Евгений Петров, Борис Лапин, Захар Хацревин…
По-разному складывались судьбы уцелевших. «Таланты водятся стайками», — заметил Юрий Олеша. И в столице на первых порах веселая стайка, выпорхнувшая в двадцатых годах из Одессы, оставалась дружной и однородной. Неизменно пользовавшаяся читательской любовью со времени появления олешевской «Зависти», бабелевской «Конармии», катаевских «Растратчиков», «Двенадцати стульев», она, порой пышно именовавшаяся «одесской школой», знавала — да и до сих пор испытывает — в критике «приливы любви и отливы», часто далеко несоизмеримые с ее реальными достижениями и пробелами.
«Мы были очень молоды. Жизненный опыт наш был иногда глубок, но всегда узок», — вспоминал Славин самые первые послереволюционные годы, и эту характеристику можно в значительной степени распространить на многое, характерное для «одесской школы», брызжущей талантом, остроумием, жизнерадостностью и оптимизмом, и в то же время далеко не всегда захватывавшей в поле своего зрения бурный драматизм совершавшегося вокруг.
Об одном из персонажей первого славинского романа «Наследник» сказано, что он «боялся не только страданий, но даже и тех слов, которыми они называются. В его словаре вы не нашли бы чахотки, могилы, скорой помощи, землетрясения».
Подобное замечание можно во многом переадресовать некоторым произведениям выходцев из этой «школы».
Однако, как это бывает в подлинном искусстве, всякое творческое сообщество — отнюдь не солдатский строй, выравненный по линейке. Тревожные ноты возникали в «Зависти», кровавая реальность гражданской войны прорывалась сквозь «нарядность» бабелевского стиля, и «Наследник» тоже тяготел к подобному видению жизни.
Молодое щегольство эффектной метафорой (герой спешит к любимой «с радостью, слегка вздрагивая, как бегут на рассвете с полотенцем к речке», во время уличной перестрелки «прохожие разбегались с таким же точно ненатуральным визгом, как летом от дворника, поливающего улицы водой», и т. п.) не заслоняло в романе стремления к тому, чтобы перед читателем отчетливо «выступал огромный, грубый и неразборчивый текст жизни», наблюдаемой взволнованными глазами юноши, который постепенно, с трудом отрывается и от семейных традиций, и от сумбурного времяпрепровождения в богемной и кружковой среде, участники которой представляют собой «нечто среднее между эсером и бильярдистом».
«Кому я смогу рассказать о фронте таком, каким я его вижу, — без геройства, без ненависти к врагу?» — размышляет Сергей Иванов, очутившись в окопах первой мировой войны, где буквально все жестоко оскорбляет «представление о герое, воспитанное… иллюстрированными журналами».
Этой первой большой вещи Славина не слишком повезло в критике. «В одной рапповской статье, — вспоминает писатель, — мой роман подвергся вздорным и злобным нападкам… Писательская шкура моя тогда еще не была обмозолена, и я страдал».
Правда, немалым утешением служило то, что книга понравилась Всеволоду Иванову, одному из немногих, кого Славин с друзьями, по словам Льва Исаевича, «причисляли к разряду „настоящих“».
К тому же роман, как богатый жизненными соками древесный ствол, дал новый мощный побег — пьесу «Интервенция», где, в частности, как бы разработан в образе Жени Ксидиаса иной, уже сатирический вариант судьбы юного «наследника», всего лишь кокетничающего своей мнимой революционностью. Его крикливо декларированная независимость от богатой «страны Ксидиас» обманчива и эфемерна, и он с куда большим правом, чем Иванов, мог бы сказать о себе словами романа: «…я был не более чем молодой шаловливый фокстерьер с голубым бантом на шее, выведенный на прогулку и уже среди травы и солнечного блеска вообразивший себя свободным, а хозяин вдруг потащил его к себе, натянув ослабевшую цепочку, или даже не цепочкой, а просто свистом, который содержал в себе сразу идею побоев и идею похлебки с жирными суповыми костями».
Познакомившись при сценическом воплощении своей пьесы с выдающимся актером и режиссером Рубеном Симоновым, Славин впоследствии писал о нем, что это «талант, ясный и вместе с тем терпкий, в жизнерадостной легкости своей доходящий иногда до водевильности, а в других ролях поднимающийся до трагических высот».