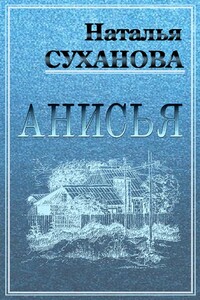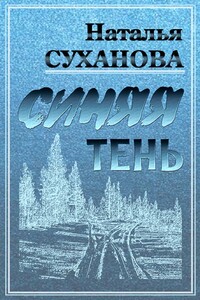Бывают в старых городках такие несуразные места: площади — не площади, не о пяти даже — о семи, восьми углах. Тут и круто, с раскатывающим звоном заворачивающий трамвайчик, и брусчатка, и асфальт, и чахлый палисадник, и какая-нибудь кривобокая парикмахерская, и улица мелких домиков, и только что отстроенный дом на пустыре, и забор уж не поймешь чего — не то какого-нибудь третьеразрядного стадиона, не то старенького завода. В воздухе и сильный, выжатый ревностной службой солнца запах растительности и плодов, и удушливо-сладковатый запах угольных отвалов — терриконы виднеются по-за домами. Крохотный базарчик сбоку, картошка, помидоры, кабачки, синенькие, стебли вымахавшего для солений укропа, куриные тушки, с которых метелочкой, а то и просто рукой то и дело сгоняются мухи. Этот малый базарчик, как забытая шлея на стене огромных сеней в старых избах, возможно, объясняет ненужную протяженность бездарно-бугроватого пространства: не исключено, что когда-то здесь был просторный южный базар, где не только овощем с приусадебного да курицей из-под крыльца торговали, но и скотом, и зерном — въезжали и выезжали возами.
Однажды на склоне душного дня здесь шла высокая рыжеватая женщина. Она еще не дошла и до середины площади, как за ней поспешил откуда-то сбоку, от стены или из переулка, мужчина.
— Аня! — крикнул он, и женщина вроде бы споткнулась, но продолжала идти, не оборачиваясь.
— Аня! — окликнул он ее еще раз, и она замедлила шаг, но все еще не оборачивалась.
И только на третий оклик, остановившись, медленно обернулась.
— Аня, это я, — сказал мужчина, оглянувшись не то на площадь, не то на дрожащий звон, который стоит в жаркий день неведомо от чего.
Она глядела на него молча, напрягшись, и видно было даже в нескольких шагах, какие синие у нее глаза.
— Аня, — сказал он, не выдерживая молчания, а может, пробиваясь сквозь ее непонимание, — это я, Андрей, разве ты не узнаешь меня? Нам надо поговорить.
Она смотрела на него, не мигая, сжимая сверток в руках.
— Я вас не знаю, — наконец, молвила она.
— Аня, подожди, это я.
— Я вас не знаю, — повторила она уже торопливо, с испугом и быстро пошла от него, не оборачиваясь, все убыстряя шаги.
— Это же Анисья, — сказал кто-то от рядков базара.
— А это мужик ее, что ли?
— Навроде муж.
— Он же ж погиб.
— Пропал без вести.
— А теперь что, объявился?
— Приехал откуда-т.
— А она ж его ищет, повсюду пишет.
— Ну, больная ж.
Некоторое время мужчина смотрел ей вслед, потом ушел, исчез да и не появлялся больше.
* * *
Казаки в здешних станицах не любят пускать на квартиру, даже если и комната и полдома стоят пустые, даже когда и цену дают вдвое, втрое. Такой нрав: лучше уж уворовать, чем прислуживать. А хоть бы и не прислуживать, хотя бы приезжий готов сам и убирать, и готовить, а все же в свой дом пустить, обязаться терпеть чужого — не-ет, не надо! Если же очень донимал уговорами приезжий, показывали ему стоящий чуть на отшибе дом Анисьи. Уже побивший ноги в поисках жилья недоверчиво спрашивал: «А она что же, возьмет?» «Инораз берет». «Что, живет плохо или боится одна?» «Да нет. А немного того!» «Так, может, не надо?» — приостанавливался приезжий. «Да вы не бойтеся — она не буйная. Она только задумывается…»
Помнется заезжий, да что ж — выбора нет — пойдет. Окликнет согнувшуюся над грядками женщину по имени, та выпрямится. Смутится приезжий, разглядев, что хозяйка — старуха, забормочет: вот-де, не знает отчества. Старуха не ответит, рассматривая его. Тот заторопится с просьбой о постое, заспешит назвать цену повыше. И опять молчит старуха, не то соображая, брать ли постояльца, не то о чем-то ином.
— Входите, кормитеся сами, овощи можете брать, — скажет, наконец, неожиданно высоким, хрипловатым голосом хозяйка и пойдет впереди приезжего в дом.
Глядя на ее высокую, сухую фигуру в кофте бурого цвета, в такой же бурой юбке, смутно вспомнит приезжий и суриковскую боярыню, и коринских старух, потому и спросит в тот же день, встретив знакомого казачка:
— А что, Анисья ваша не из монашенок?
— Ведьмачка! — с удовольствием огорошить брякнет казак. — Вместо коровы или там курочек, утей, овец у ей одна кошка глухонемая: бей — не мявкнет, только ощерится, а цапнет — месяц заживать будет. Знахарка — скотину на-раз лечит.
— Так это ж хорошо?
— Хорошо, когда неплохо, — загадочно молвит казачок. — Она их потом «держит» — оне за ней ходют.
— Говорят, животные доброго человека чуют.
— Кабы была добрая, не мучилась бы. У ей и икон-то нет, как у нормальных бабок.
— Ну, теперь уж бабки советские.
— Советские — не советские, а как к старости да к смерти подойдет, вот и в церковь потянулись.
Вернется постоялец в дом к Анисье, оглядится — и в самом деле не найдет угла хотя бы с одной иконой.
— Я смотрю, у вас и икон нет, — попробует он завязать разговор. — В Бога не верите?
— Изобразительность это все, — скажет бесцветно высоким, надтреснутым голосом Анисья.
— Что: Бог или иконы?
Но Анисья уже не ответит, пойдет, что-то подбирая, что-то обметая по пути.
Выйдет к вечеру постоялец из дома. Протянется с пастбища стадо, но ни одна корова не выбьется, не завернет к Анисье: кошка — и та, похоже, в самом деле глухонемая — тяжело, с каким-то утробным хрипом спрыгнет с подоконника, ляжет у ног хозяйки, не мурлыча.