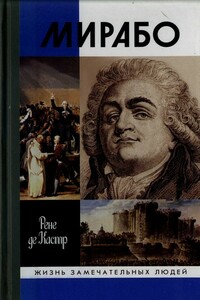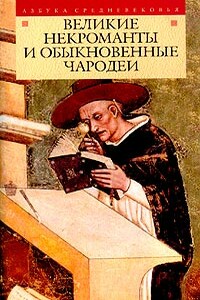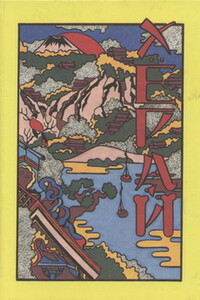В начале тридцатых годов прошлого века, в пору эффектных «начал» писателей одесской «южной кучки» (Олеши, Бабеля, Катаева, Багрицкого), из журналов в газеты и наоборот перепархивала летучая фраза: «Чтобы стать литератором, надо родиться в Одессе». На склоне лет в мемуарной «Книге прощания» Юрий Карлович Олеша ее выколпаковал и переколпаковал: «Чтобы родиться в Одессе, нужно быть литератором».
Случай точь-в-точь ахматовский. Вторая дочь тверской помещицы Инны Эразмовны Стоговой и отставного инженер-капитана второго ранга Андрея Антоновича Горенко родилась 11 (23) июня 1889 года на дачной окраине некоронованной столицы южной России. Сюда, до последней, одиннадцатой остановки Большого Фонтана, еле-еле дотягивал паровой трамвайчик. Улочка, на которой был «прописан» одноэтажный домишко, снятый Горенками в лето 1889 года, – неавантажный, без номера, – называлась Хрустальной, хотя ничего оправдывающего почти дворцовое название здесь не было и в помине. Впрочем, до промышленно-строительного бума конца века на всей приморской стороне жилые строения выглядели не многим лучше. Это потом, когда Анна приедет в Одессу подростком и мать вздумает показать дочери дом, где та появилась на свет, владение Саракини покажется ей мизерабельным. Не дача на взморье, а утлое строеньице, нависшее над отвесным обрывом к морю, невесть как сохранившееся среди кичливо-новеньких загородных особняков.
Свежезастроенные дачные предместья стремительно богатевшей Одессы в первые годы ХХ века, то есть такие, какими они станут, когда Инна Эразмовна Горенко и ее дочь, строптивая пятнадцатилетняя барышня, отправятся на поиски владения Саракини, описаны в уже упоминавшихся мемуарах Юрия Олеши: «…Я видел загородные дороги, по сторонам которых стояли дачи с розами на оградах и блеском черепичных крыш. Дороги вели к морю. Я шел вдоль оград, сложенных из камня-известняка… Желтоватые стены дуют пылью, розы падают на них, скребя шипами… Там, в блужданиях по этим дорогам, составил я свои первые представления о жизни. Жизнь, думал я, это вечное лето. Висят в лазури балконы под полосатыми маркизами, увитые цветением. Я буду учиться, я способный, – и если то обстоятельство, что я сейчас беден, вызывает во мне горечь, то горечь эта приятна, потому что впереди я вижу день исполнившихся мечтаний. Я буду богат и независим. Я ощущаю в себе артистичность и знаю, что профессия, которой я овладею, даст мне свободную жизнь в обществе богатых и независимых».
Горечь унижения настоящим в соединении с надеждой на обеспеченное будущее испытывала, похоже, и Аня Горенко, когда разыскивала среди увитых розами особняков место своего рождения. Иначе трудно объяснить следующий пассаж из ее «Автобиографической прозы»: «Когда мне было 15 лет и мы жили на даче в Лустдорфе (то есть гостили у полубогатой тетки со стороны отца Аспазии Антоновны Арнольд. – А.М.), проезжая как-то мимо этого места, мама предложила мне сойти и посмотреть на дачу Саракини, которую я прежде не видела. У входа в избушку я сказала: «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска»… Мама огорчилась. «Боже, как я плохо тебя воспитала»». Вспоминая этот эпизод, Анна Андреевна добавляет: «Я не была тщеславна. Это была просто глупая шутка».
Не думаю, чтобы девица Горенко просто шутила. Но ежели и вправду это была просто глупая шутка, то наверняка из тех, что приоткрывают таимое в подсознании. Конечно, и дома детства будущей Анны Ахматовой в Царском Селе, куда Горенки переехали в 1890-м, были далеко не респектабельными. У многих ее соучениц куда более удобные и красивые, а главное, собственные, не наемные жилища. Но это были старинные, обветшавшие постройки, не выставлявшие напоказ, как в Одессе, свое богатство.
Разыскивая место для будущей мемориальной доски, инженер-капитанская дочка вряд ли придавала какое-то значение тому, что домик, в котором она родилась, числился по улице Хрустальной, зависшей над крохотной, тоже Хрустальной, бухтой. Первым обратил внимание на этот странный адрес Николай Гумилев. Да и то только потому, что у темноволосой гимназистки, которую он высмотрел в пестрой стайке сверстниц, оказались неожиданно светлые, хрустально-прозрачные глаза. С годами они утратят унаследованную от матери прозрачность, однако в стихах Гумилева само это слово – хрусталь – навсегда свяжется с образом девочки «с прозрачными глазами». Так было в 1907-м, когда «Дева Луны» была его «неверной», «"неневестной" невестой» – «и голос хрустальный казался особенно звонок…». Так было и в 1921-м, когда Анна Андреевна уже несколько лет считалась законной супругой его лучшего друга: «Ты держишь хрустальную сферу в прозрачных и тонких руках…». Не знаю, показывала ли Анна замороченному ее капризами и отказами жениху владение Саракини во время наездов Гумилева в Одессу. Думаю, все-таки показывала.
В «Реквиеме» тень убиенного мужа и память о Хрустальной бухте навечно связаны единством авторского чувствования:
А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,
Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем – не ставить его