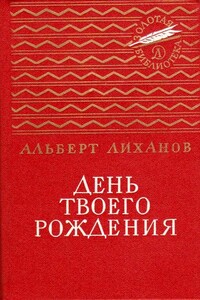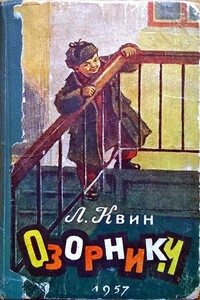Первый раз я прочитал бабушкино письмо больше десяти лет назад, когда мне было двенадцать, – такое письмо, что уж никак не забудешь. Помню, я перечитывал его снова и снова, чтобы убедиться, что всё правильно понял. Вскоре и все домашние тоже прочли это письмо.
– Н-да, я сражён наповал, – сказал мой отец.
– Безумие какое-то, – заявила мама.
Бабушка позвонила тем же вечером:
– Був? Это ты, дорогой? Это бабушка.
Бабушка и начала звать меня Був. Скорее всего, это было самое первое слово, которое она от меня услышала. По-настоящему меня зовут Майкл, но так она меня никогда не называла.
– Так ты прочитал? – продолжала она.
– Да, бабушка. Это правда – вот это всё?
– Конечно же да, – ответила она с далёким смешком, который отозвался эхом. – Если тебе угодно, считай, что всё из-за кошки, Був. Но помни одно, дорогой мой: только дохлая рыба плывёт по течению, а я пока что совсем не дохлая рыба.
Итак, всё правда. Она действительно взяла и сделала это. Мне хотелось вопить и улюлюкать, скакать, как мячик, от радости. Но все остальные как будто ещё не оправились от шока. Целый день приходили тётушки и дядюшки, кузены с кузинами, охали и ахали, качали головой и перешёптывались:
– Да как же она могла?
– И в её-то возрасте!
– Дедушка всего несколько месяцев как умер.
– Едва похоронить успели.
И, по правде говоря, дедушка действительно всего несколько месяцев как умер: точнее, пять месяцев и две недели.
Во время похоронной службы лил ужасный ливень, да так громко, что иногда и орган заглушал. Помню, какой-то младенец расплакался и его пришлось вынести из церкви. Я сидел рядом с бабушкой на передней скамье, возле гроба. Бабушкины пальцы дрожали, и когда я искоса взглянул на неё, она улыбнулась и сжала моё плечо: мол, всё в порядке. Но я знал, что ничего не в порядке, и потому держал её за руку. Потом мы вместе шли за гробом по проходу между рядами, крепко ухватившись друг за друга.
Дальше мы стояли под её зонтиком у могилы и смотрели, как опускают гроб; слова викария уносило ветром, мы даже не успевали их расслышать. Помню, я изо всех сил старался почувствовать горе, но у меня не получалось, и не потому, что я не любил дедушку. Я его любил. Но он был болен рассеянным склерозом десять лет или больше, то есть почти всю мою жизнь, и я его толком даже не знал. Когда я был маленьким, он сидел у моей кровати и читал мне всякие истории. Позже уже я читал ему; иногда он только и мог, что улыбаться. В конце, когда дедушке стало совсем плохо, бабушке приходилось делать за него почти всё. Даже переводить то, что он пытался мне сказать, потому что я уже больше не мог этого понять. В последние несколько каникул, проведённых в Слэптоне, я по глазам видел, как ему плохо. Дедушку раздражало собственное состояние и бесило то, что я вижу его таким. И когда я услышал, что он умер, мне, конечно, стало жалко бабушку: они ведь были женаты больше сорока лет. Но где-то в глубине души я радовался, что всё закончилось – и для неё, и для него.
После похорон мы вместе пошли по переулку в паб, на поминки, и бабушка всё так же сжимала мою руку. Я понимал, что не стоит сейчас ничего говорить. Бабушка погрузилась в какие-то свои мысли, и беспокоить её не надо было.
Мы проходили под мостом, паб уже виднелся впереди, когда бабушка наконец заговорила.
– Теперь он свободен от всего, Був, – сказала она, – и от инвалидного кресла тоже. Господи, как он ненавидел это кресло! Теперь он снова будет счастлив. Как жалко, Був, что ты не знал его раньше. Если бы ты знал его так же, как я. Он был здоровенный, дюжий такой парень и при этом мягкий, и спокойный, и всегда добрый. Он старался быть добрым до самого конца. Поначалу мы с ним всё время смеялись – ох, как мы хохотали! В этом-то, наверное, главная беда: он просто перестал смеяться, давным-давно, ещё в начале болезни. Вот почему я всегда любила, когда ты приезжал к нам, Був. Ты напоминал мне о том, каким он был в юности. Ты всегда смеялся, прямо как он в былые дни, и мне становилось намного лучше. И дедушке тоже, уж поверь мне.