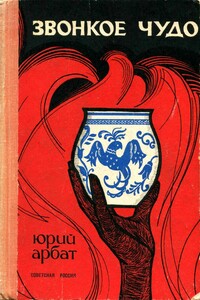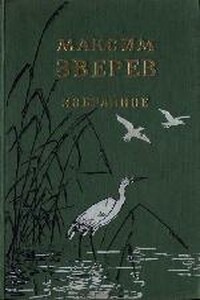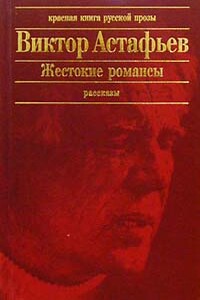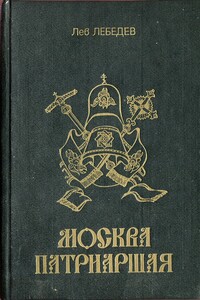В Вербилках, милом моему сердцу подмосковном селе, живал я подолгу, когда писал книгу о людях фарфорового завода, некогда принадлежавшего фамилии господ Гарднеров, а в конце XIX века купленного миллионером Кузнецовым.
Река Дубна — рядом, а вокруг сосновые боры да чернолесье. И недаром про Вербилки говорят, что там из двух рабочих один охотник, а другой — рыбак, который сам и лодку смастерит и сети сплетет.
Обычай такой у вербилковских рыбаков: после работы, а чаще всего в короткий день — субботу, или на отдыхе, в воскресенье, подымаются они по реке на своей деревянной флотилии километров за пять. По пути ловят на уху да на закуску щук, лещей, окуней, а то из-под коряги и налима спугнут. Коли Ерш Ершович ненароком попадет, тоже годится в дело, для навара.
Вслед за тем располагаются в местечке, которое издавна зовется «У убитого»: будто бы много лет назад кучер убил там хозяина фабрики, ехавшего с большими деньгами.
Разжигают костер и, пока греется вода, а потом, когда уха поспеет, рассказывают разные занятные истории. От этих рыбаков я многое записал — и про горькую старую жизнь мастеровых и про наше советское время.
Стал я разыскивать таких рассказчиков и на других фарфоровых и фаянсовых заводах необъятной нашей страны: в подмосковной Гжели, старинном гнезде русских фарфористов, в Конакове, что красуется на берегу Волги и Московского моря, в Песочном, возле Рыбинска и в других местах.
Так и собралась книга рабочих сказов «Звонкое чудо».
ро хозяина тебе рассказать, голубок? Ну что ж, расскажу. Только история эта такая давняя, что начинать ее следует, как говорится, с сотворения мира.
Мать и отец у меня — природные фарфористы. По мужской линии у нас все точильщиками работали — нынче это формовочная профессия, — одним словом, вытачивали посуду. Женщины с малых лет в живописную шли и так до слепых глаз там и вековали. Дома меня оставить не с кем, ну мать и брала в цех. Сама она садилась к длинному столу, за которым трудилось еще одиннадцать таких же мастериц, а меня укладывала в корзинку возле себя. Помню, все шутила:
— Я тебя грудью кормила, а ты уже скипидар нюхал.
Так что, выходит, я не то что с пеленок, а с деда-прадеда фарфорист.
Ходить выучился, за стол в живописной держась. Идешь от табуретки к табуретке, все поближе к окну норовишь: оттуда видно, как дым из фабричной трубы валит, — а навстречу тебе, за те же табуретки, как за надежную опору, цепляясь, шагает мой годок, сын другой живописки. Ну, иной раз и подерешься. Только матери нас живо в чувство приводили: шлепок, и все тут. Потому мастер, не дай бог, крик услышит, — сразу велит гнать из мастерской.
Подрос я и в точильщики не пошел. Нарушил, можно сказать, обычай. Какой интерес формовочную пыль глотать, все свои корня отравлять ядовитым воздушным пространством? Целый день, будто в тумане, в этой пыли. Не жильцы они считались, точильщики-то, все до единого чахоточные. Я, положим, не только это в резон брал, — меня само живописное дело манило. Сидят люди за длинным столом, один байку рассказывает, другие слушают. А тоненькая кисточка сама в руке ходит. Глядишь — на лазури-мураве розан расцвел, листочки-бутончики выпустил, темно-коричневые тычинки появились. Обожжешь чашку в огне, и эти тычинки, словно золотые бусинки, рассыплются.
В ту пору — с ученьем одно горе, не то что нынче.
Мастер тебя под свою руку то ли соблаговолит принять, то ли нет. А и примет, так на посылках набегаешься. Уж я и цветы выводить навострился, и рука у меня окрепла, так что старых живописок в работе обгонять мог, а не признают, нет. Расчет лукавый: если учеником числишься, хозяину от этого прямая выгода — платил он ученикам сущие гроши.
До двадцати двух лет состоял я в учениках. Женился, жена на сносях ходила — вот тогда дождался я настоящей работы.
Ну, это все — присказка, а теперь слушай о том, с чего начали: про хозяина. Расскажу, как я самое естество его распознал.
Работал у нас старый мастер Федор Николаевич, и хранил он великие богатства. Там в его запасе и самоличные рисунки, и наброски учителя еще не знай каких времен, и листы из книги — изображения древнерусской деревянной резьбы, боярской парчи, кружевного плетения, и росписи на нижегородских, правильнее сказать, городецких прялках, с такими конями, что взора не отведешь, и много всякой другой радости. Старик брал оттуда узоры для посуды, а листы прятал, чтобы никто другой не попользовался: тогда каждый свою выгоду стерег.
В неловкий час забыл Федор Николаевич листы на подоконнике. А я в живописной от зари до зари вертелся, подметил это. Вот, скажу тебе, голубок, где счастье мое открылось! Раньше-то я считал, что все мастера сводят рисунки. Были, мол, с незапамятных времен чашки, их живописцы и повторяют в тысячный раз, — листок к листку, точка в точку. А если новая парочка — то есть чашка с блюдцем — появилась, все знали: привез ее хозяин из-за границы как образец, теперь, следовательно, будут сводить этот самый рисунок. И вдруг увидел я среди листов что-то похожее на рисунок Федора Николаевича: пышные цветы с узорными сердцевинками, жар-птицы на ветках, хитросплетение трав. Ну, молодежь, хоть она и неумелая, а дерзкая на дела — мне тогда и пятнадцати годков не минуло, — решил я сам рисунок составить. И чтобы ты думал, голубок, — вечер посидел и нарисовал так, как в листах видел. До того осмелел, что даже самому Федору Николаевичу мое художество показал.