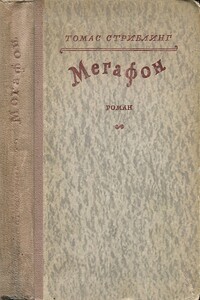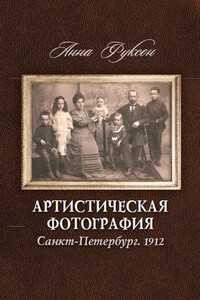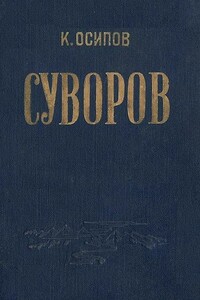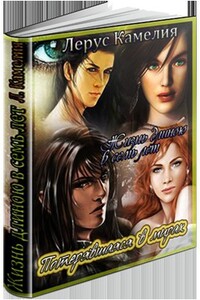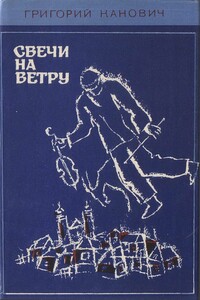Григорий Канович
ЗВОН УЗДЕЧКИ НА ЗАКАТЕ
Уже над Йонавой по-хозяйски кружили чужие самолеты, но не с красными звездами, как обычно, а с другими зловещими знаками на крыльях; уже на окраинах местечка открыто гуртовались повстанцы, которые опоясывали рукава белыми повязками, еще не обрызганными еврейской кровью, и со дня на день ждали желанных, пускай и смертоносных, перемен - прихода передовых частей немецкой армии; уже тяжелые, крытые брезентом грузовики с номерами другой армии, набитые нехитрыми гарнизонными пожитками, комсоставскими женами и детьми, в спешном порядке покидали военный городок в Гайжюнай и отправлялись обратно на Восток - туда, откуда они, непрошеные, пришли; уже на улицах и в лавках нельзя было услышать ни одного звука входившей в моду русской речи; уже благоразумные и осмотрительные евреи, обладавшие проверенным в веках чутьем на резню и погромы, оставляли свои дома и - кто пешком, кто на велосипедах, кто на повозках - подтягивались к границам Белоруссии; только отец, прикованный к швейной машинке, - несмотря на все грозные слухи и происшествия - ничего не замечал и продолжал себе, как и прежде, продевать в игольное ушко нитку, строчить и напевать под нос старинную еврейскую песню про портного, который шьет и шьет, но не может залатать свою недолю. Не замечал он ничего не потому, что не догадывался об опасности, и не потому, что бывший его подмастерье - дядя Шмуле Дудак, в начале сорок первого года благополучно отбывший в командировку на высшие чекистские курсы в Москву, своими россказнями задурил родне и не родне голову о мощи и непобедимости Красной Армии, а потому, что отец отказывался верить в то, что немцы такие изверги, какими их размашисто малевал неистовый Шмуле-большевик.
Сам же отец немцев в жизни в глаза не видел, слышал о них только в юности от своего первого учителя Шаи Рабинера, забиравшегося на заработки аж в Дрезден и Магдебург и всегда отзывавшегося о тамошних жителях с завистливым почтением. Ничего, мол, не скажешь - великие мастера и кудесники!..
- Бог немца - работа, он не Всевышнему молится, а игле и рубанку, - с чужих слов спокойно и вразумительно старался втолковать мой отец и маме, и Шмуле-большевику, бросившему портновство ради командирских погон и форменной фуражки. - Нам бы, евреям, так... Если кто-нибудь и должен их бояться, то это лоботрясы и дармоеды, придумавшие себе такое легкое ремесло, как сажать людей в тюрьму или ни за что ни про что убивать. А нам-то чего их бояться?
- Нам чего бояться?! - срывалась на крик мама. - А ты бы этого "поляка" - сапожника Велвла - послушал! Он в тюрьму никого не сажал, - ополчалась она на отца. - Велвл всю жизнь шилом в чужие подошвы тыкал. Не поленись, сходи к нему и расспроси. Он тебе расскажет, как из Польши еле ноги унес!
Велвл был беженцем из Белостока. В начале сорокового он появился в местечке с маленьким, рыжеволосым сыном Менделем и миловидной, богомольной женой Эсфирью, нанявшейся нянькой в многодетную семью нашего местечкового раввина Иехезкеля Вайса.
- У меня своя голова на плечах, - сердито отвечал отец. - Откуда ты знаешь, что Велвл бежал из Польши от немцев, а не от должников? И потом я уже назначил на четверг последнюю примерку костюма рабби Иехезкеля.
- Война на пороге, а ты своё - на четверг примерку назначил...
- Война, не война, каждый, Хена, должен своим делом заниматься: солдат - стрелять, портной - шить и приглашать заказчика на последнюю примерку. Рабби Иехезкель придёт в четверг, - как ни в чем не бывало, продолжал отец, - и что я ему скажу? Что из-за этого переполоха примерка отменяется? Что сапожник Велвл советует всем евреям и вам, рабби, немедленно убраться отсюда, чтобы не пришлось примерять на себя беду?
- Да ты совсем рехнулся! Оглянись вокруг! Все нормальные люди бегут. И нам засиживаться нечего. Пора убираться. И чем быстрей, тем лучше, пока нас эти твои хвалёные немецкие мастера не перерезали или не вздёрнули на рыночной площади.
- Ну зачем же, Хена, такую панику разводить? - уже с меньшим пылом защищал себя и немцев времён своего учителя Шаи Рабинера мой отец.
- Ты, голубчик, как хочешь, а я завтра же беру Гиршке и убираюсь отсюда. Сын мне дороже, чем панталоны рабби Иехезкеля.
В одном он, упрямец, истый литвак, всё же ей уступил - перед самой первой бомбёжкой военного полигона в Гайжюнай, вблизи Йонавы, всё-таки наведался к беглецу из Польши.
- Ты, Велвл, мне объясни, что там у вас с евреями произошло? Это правда, что немцы их там и травят, и режут?
- Неправда, - сказал Велвл. - Там евреев травят и режут не только немцы, но и поляки... Слава Богу, мы с Эсфирью и Менделем вовремя оттуда рванули.
- Хена говорит, что и нам пора сматываться. Мой покойный тесть, да будет благословенна его память, бывало, в назидание говорил: в постели с женой не пререкайся, в постели прими все её советы, но на людях, при свете дня, всегда поступай наоборот, ибо ум женщины - ум ночной.
- Тесть твой ошибался, - вздохнул Велвл. - Господь Бог, наш заступник и покровитель, и тот нет-нет да и даст промашку. Разве это не Его ошибка, что наряду с нами Он сотворил ещё и немцев? Твоя женщина тысячу раз права. Бежать надо... Но я боюсь, Шлейме, что евреи вряд ли уже от них где-нибудь укроются. Страшно вымолвить, но чует моё сердце, что они нас всюду достанут.