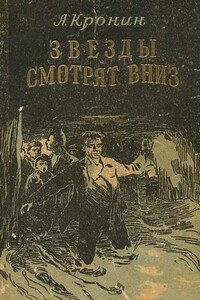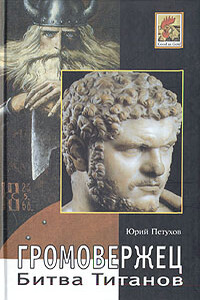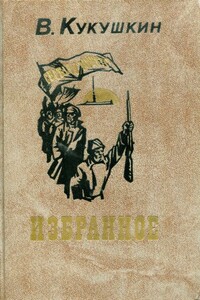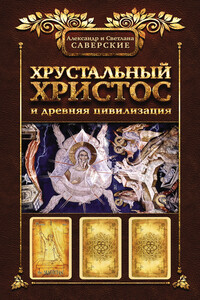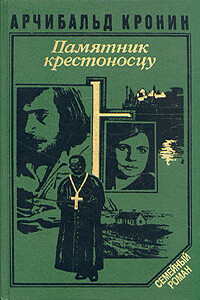Когда Марта проснулась, было ещё темно и очень холодно. Ледяной ветер с Северного моря врывался сквозь трещины в стенах, образовавшиеся в этом старом доме из двух комнат от его постепенного оседания. Вдалеке глухо шумел прибой. Больше ничего не нарушало тишины.
Марта лежала не шевелясь, сурово отодвинувшись подальше от Роберта, который всю ночь кашлял и метался, часто прерывая её сон. С минуту она размышляла, мужественно встречая наступающий день и стараясь подавить в себе горькое чувство к мужу. Потом, собравшись с силами, поднялась с постели.
Каменный пол леденил её босые ноги. Она торопливо, хотя и через силу, одевалась. В её движениях сказывалась энергия крепкой женщины, которой не было ещё и сорока лет. Тем не менее одевание так утомило её, что она задыхалась. Она не была голодна, — с некоторого времени она почему-то перестала ощущать сильный голод, но её мучила нестерпимая тошнота. Дотащившись до раковины, она открыла кран. Вода не шла. Трубы замёрзли.
Марта словно оторопела на мгновение и стояла, прижав огрубевшую руку к вздутому животу и глядя в окно на медленно занимавшуюся зарю. Внизу ряд за рядом вырисовывались туманные очертания копей. Справа чернел город Слискэйль, за ним — гавань, где мерцал один-единственный холодный огонёк, а дальше море, ещё более холодное. Слева застывший силуэт копра над шахтой «Нептун № 17», напоминая виселицу, выступал на фоне бледного утреннего неба, царил над городом, гаванью и морем.
Морщина на лбу Марты обозначилась резче. Вот уже три месяца тянется забастовка… Словно спасаясь от мыслей об этой беде, она резко отвернулась от окна и принялась разводить огонь. Нелёгкая задача. У неё были только сырые дрова, которые Сэмми вчера выловил из воды, да немного угольного мусора самого худшего сорта, его принёс Гюи с отвала. Её бесило, что ей, Марте Фенвик, которая, как и подобает жене углекопа, всегда имела запас наилучшего угля, приходится теперь возиться с мусором. Но в конце концов ей удалось развести огонь. Она вышла за дверь, одним сердитым ударом разбила лёд в кадке, наполнила водой чайник и, воротясь в кухню, поставила его на огонь.
Ждать пришлось долго. Но, наконец, вода вскипела, и Марта, налив себе чашку, примостилась у огня, сжимая чашку обеими руками и медленно прихлёбывая кипяток. Он её согрел, по онемевшему телу разлилась живительная теплота. Конечно, напиться чаю было бы ещё приятнее; с чаем ничто, ничто не может сравниться. Но и кипяток не плох: Марта чувствовала, что все в ней оживает. Пламя, охватив сырые дрова, осветило клочок старой газеты, оставшийся от растопки и лежавший на глиняном очаге. Продолжая прихлёбывать из чашки горячую воду, Марта машинально прочла:
«М-р Кейр Харди внёс в Палату общин запрос, предполагает ли правительство, в виду крайней нужды среди населения северных районов, предоставить школам возможность организовать питание детей неимущих родителей. На это получен ответ, что правительство не намерено такую возможность предоставить».
Лицо Марты, исхудавшее до костей, не выразило ничего — ни интереса, ни возмущения. Оно было непроницаемо, как сама смерть.
Вдруг она обернулась: так и есть, Роберт проснулся. Он лежал на боку в знакомой позе, подперев щеку рукой, и смотрел на неё. И сразу же накопившаяся горечь снова поднялась в душе Марты. Во всём, во всём, во всём виноват он. Тут Роберт закашлялся; она знала, что он всё время пытался удержать кашель из страха перед ней. Это был глубокий, тихий, привычный кашель, в нём не было ничего раздражающего. Кашель этот был как будто неотделим от Роберта, он его не мучил, он одолевал его как-то мягко, почти ласково. Рот его наполнился мокротой. Приподнявшись на локте, Роберт выплюнул её в клочок бумаги. Он постоянно нарезал такие квадратики, старательно, заботливо вырезал их из журнала «Тит-Битс» старым кухонным ножом с костяной ручкой. Запас бумаги у него никогда не переводился. Он отхаркивал мокроту в один из таких клочков, рассматривал её, потом складывал бумажку и сжигал её… сжигал с каким-то облегчением. Когда он лежал в постели, он бросал эти сложенные бумажки на пол и сжигал позже, после того как вставал. В Марте внезапно проснулась ненависть к мужу, к этому кашлю, неотделимому от него… Тем не менее она поднялась, снова наполнила чашку кипятком и отнесла ему. Роберт молча взял чашку из её рук.
Стало светлее. Часов в комнате теперь не было, они первыми были заложены, мраморные часы с башенкой, приз, полученный её отцом за игру в шары, — да, отец был славный человек и настоящий чемпион! — но Марта решила, что уже должно быть около семи. Она обернула шею чулком Дэвида, надела суконную кепку мужа, перешедшую теперь в её собственность, и потрёпанное чёрное пальто. Вот это уж во всяком случае приличная вещь — её чёрное суконное пальто! Она не из тех, что ходят в накинутом на плечи платке. Нет! Она всегда была и будет приличной женщиной, несмотря ни на что. Она всю жизнь старалась быть приличной.
Не сказав ни слова, не взглянув на мужа, она вышла, на этот раз через парадный ход. Закрывая лицо от резкого ветра, направилась вниз, в город, по крутому спуску Каупен-стрит.