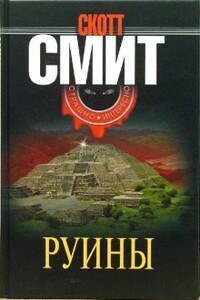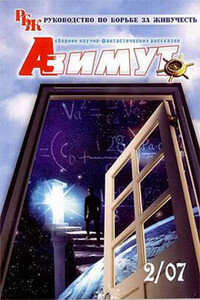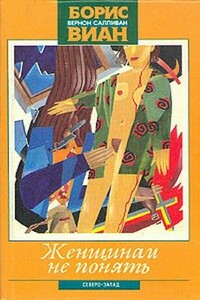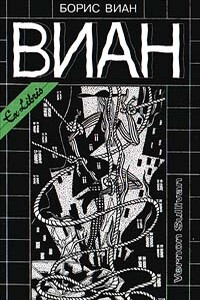Борис Виан
Зовут
(Из сборника "Трали-вали")
I
Стоял ясный день. Он пересек Тридцать первую улицу, прошел два квартала, миновал красный склад и двадцатью метрами дальше нырнул в боковой вход небоскреба Эмпайр Стейт.
На сто десятый этаж его поднял скоростной лифт, а оттуда на крышу он взобрался по пожарной лестнице: чем выше, тем лучше, так он и с мыслями собраться успеет.
Прыгать надо далеко вперед, чтобы ветром не прибило к фасаду. Но не слишком далеко: тогда по пути можно будет заглядывать в окна, это всегда занятно, смотреть он начнет с восьмидесятого, уже хорошенько разогнавшись.
Он вытащил из кармана пачку сигарет, вытряхнул из одной табак, отпустил легкую бумажку. Ветер удачный - обтекает здание. Больше, чем на два метра, не отнесет.
Он прыгнул.
Воздух запел в ушах, и он вспомнил бистро на Лонг Айленд, там, где шоссе делает изгиб у дома в виргинском стиле. Они с Винни пили петрусколу, когда вошел малыш - рубашка навырост, соломенные вихры и светлые глаза, загорелый такой крепыш, но не слишком бойкий. Сел перед башней сливочного мороженого, больше его самого, и стал есть... А потом со дна бокала поднялась птица, редкая для этих мест желтая птица с большим крючковатым клювом, красными глазами, обведенными черным, с оперением на крыльях темнее, чем на грудке.
Он представил себе ножки птицы в желтых и бурых кольцах. Все в бистро дали денег на гроб. Славный был мальчишка... Но восьмидесятый этаж приближался, и он открыл глаза.
Все окна распахнуты навстречу летнему дню, солнечный свет хлещет в комнату, затопляет открытый чемодан, открытый шкаф, аккуратно приготовленные стопки белья: отъезд. Город пустеет - время отпусков. На пляже в Сакраменто Винни, в черном купальнике, кусала душистый лимон. У самого горизонта показалась яхточка, выделяясь среди других своей ослепительной белизной. Из гостиничного бара послышалась музыка. Нет, Винни не хотела танцевать, она хотела получше загореть, стать совсем черной. Она подставляла солнцу блестящую от крема спину, и ему нравилось смотреть на ее открытую шею; ведь обычно волосы падали ей на плечи. Какая упругая кожа на шее! Его пальцы помнили прикосновение к едва заметным шелковым волоскам, которые никогда не стригут, нежным, как шерстинки внутри кошачьего уха. Если потереть такой пушок у себя за ушами, в голове отдается словно шуршанье волны по мельчайшей гальке, почти уже ставшей песком. Винни нравилось, когда он брал ее сзади за шею большим и указательным пальцами. Тогда она запрокидывала голову, поднимала плечи, и кожа на плечах собиралась складками, ягодицы и ляжки твердели. Белая яхточка все приближалась, потом она отделилась от поверхности моря, плавно взмыла в небо и слилась с облаком, таким же белым.
Семидесятый этаж гудел голосами в кожаных креслах. Его обдало волной сигаретного дыма. Так же пахло в кабинете ее отца. Он ему и слова сказать не дал. Вот его сын не из тех, кто вечно торчит на танцульках, вместо того чтобы посещать Клуб христианской молодежи. Его сын учился, получил диплом инженера и теперь - для начала - работает рядовым наладчиком: он пройдет по всем цехам, чтобы досконально узнать дело, научиться понимать людей и управлять ими. Ну а что касается Винни, то отец ведь не может взять на себя воспитание дочери, а мать, к сожалению, слишком молода... Безусловно, девочке хочется пофлиртовать, как и всем в ее возрасте, но из этого вовсе не следует... У вас есть деньги?.. Живете уже вместе... Не имеет значения, все это и так слишком затянулось. Американский закон, к счастью, карает подобные вещи, и, слава Богу, с моими политическими связями... Да я и понятия не имею, что вы за птица!..
Дым оставленной на краю пепельницы сигары поднимался, принимая в воздухе причудливые формы, а отец Винни все говорил, говорил, не замечая, как сизые кольца приближаются к его шее, охватывают ее, сжимают; а когда посиневшее лицо отца Винни коснулось толстого стекла на столе, пришлось бежать что есть мочи, ведь в убийстве обвинят, конечно, его. И вот теперь он стремительно летит вниз; на шестидесятом - ничего особенного... бело-розовая детская. Когда мать наказывала его, он прибегал сюда, приоткрывал дверцу платяного шкафа, забивался в угол. Здесь же, в старой жестянке из-под конфет, хранились его сокровища. Он даже помнил картинку на крышке, да-да, черно-оранжевая коробка, и оранжевый поросенок танцует, сам себе аккомпанируя на флейте. В шкафу было уютно и безопасно, только наверху, в темноте между платьями, мог притаиться кто-то чужой, но при малейшей тревоге достаточно толкнуть дверцу... В той коробке лежал стеклянный шарик: три оранжевых спирали, три голубых - через одну. Что там было еще, теперь уже не вспомнить. Однажды он так разозлился на мать, что разорвал ее платье (мать вешала свои наряды к нему, в ее шкафу уже не хватало места), и больше она не могла его надевать. Винни так смеялась в тот первый вечер, когда они пошли танцевать: ведь он решил, что у нее лопнуло платье, - от щиколотки до колена шел большущий разрез, и только с левого боку. Стоило ей шагнуть левой ногой, головы парней поворачивались как по команде. А как только он отходил к стойке бара за стаканом чего-нибудь покрепче для нее, ее, как водится, тут же приглашали, а он все ходил и приносил ей новые бокалы, и вдруг его брюки начали садиться, сморщиваться, а потом и совсем испарились, он оказался с голыми ногами, в трусах и коротком смокинге, и все захохотали нестерпимо, и он ринулся головой в стену, к своей машине. И только одна Винни не засмеялась.