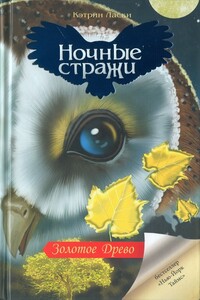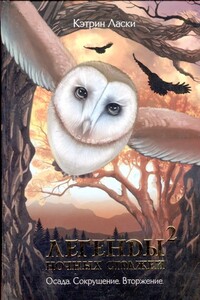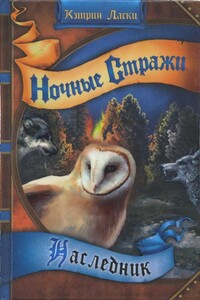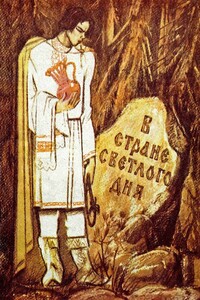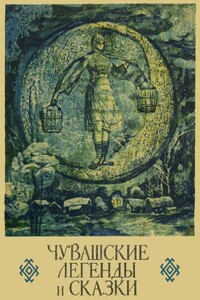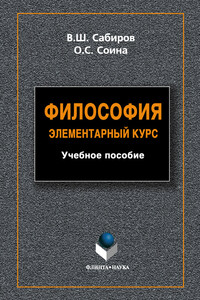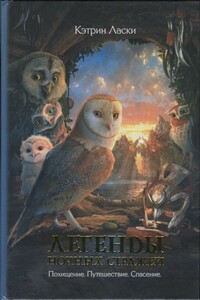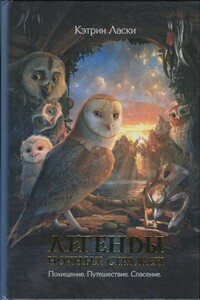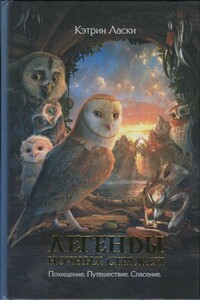— Смотрите на меня! Смотрите же! — оглушительно проухал Сумрак.
Разогнавшись, он стремительной серебряной молнией прочертил ночное небо, а потом сложил крылья и камнем ринулся вниз, прямо к крутому гребню волны. Зрители невольно затаили дыхание, но когда до воды оставалось всего несколько сантиметров, Сумрак свечой взмыл в небо, так что соленые брызги пенным хвостом кометы просвистели у него за спиной. Подлетев к друзьям, он самодовольно расправил перья и спросил:
— Ну, кто посмеет сказать, что чайки делают это лучше?
Гильфи повернулась к Сорену и Копуше и тихонько вздохнула:
— Кажется, я уже знаю, что сейчас будет.
— Мы тоже! — дружно закивали оба. В тот же миг Сумрак оглушительно запел:
Я не просто много лучше,
Я еще гораздо сушу!
И красивее, и толще,
И при том гораздо больше!
Я роскошная сова,
Во мне бездна щегольства.
И добавлю без утайки —
Я в полете лучше чайки.
Волны плещут, свищет ветер,
Сумрак круче всех на свете!
В это время года ветры над морем отличаются особо капризным нравом, поэтому друзья развлекались вовсю, катаясь и кувыркаясь в воздушных потоках, бушевавших над островом Хуула. Больше всего на свете совы Великого Древа любили играть с ветром, и никто на свете не умел делать это лучше, чем стая Сорена.
Только сейчас все было по-другому. Приближение зимы всегда знаменовалось наступлением поры белого дождя, но в этом году Великое Древо, вопреки календарю, сохранило золотое сияние лета. С той самой ночи, когда Корин добыл уголь Хуула из жерла вулкана в краю Далеко-Далеко, время на острове как будто остановилось.
Сорен украдкой оглянулся на остров. Даже странное поведение Великого Древа беспокоило его не так сильно, как непонятная тоска, одолевшая юного короля Корина. Некоторое время назад любимый племянник Сорена затворился от подданных в своем дупле и сидел там один, погруженный в невеселые раздумья. Королевская ответственность тяжкой ношей легла на плечи Корина, но Сорен догадывался, что сильнее государственных забот короля терзают мысли о загадочной природе угля.
* * *
А в это самое время король Корин сидел в своем скромном дупле и молча смотрел на пылающий уголь Хуула. Эта оранжевая звездочка с трепещущим внутри язычком синего пламени в зеленом ободке была необычным углем, и в глубине ее Корин видел совсем не простые вещи. Ибо Корин был огнечеем, но читать языки пламени было для него намного проще, чем постигать изменчивую суть угля. Как и картины в огне, рождавшиеся в сердце угля образы приходили непрошенными; они были намного ярче огненных видений, однако при этом гораздо менее четкими, почти неуловимыми. Но сейчас Корин увидел в глубине угля нечто такое, от чего сердце его пустилось вскачь, а желудок оцепенел. Вглядываясь в трепещущую голубую сердцевину угля, он заметил в ней проблеск белого цвета, который на его глазах стал расти и округляться.
«Словно луна, — рассеянно подумал Корин и тут же увидел уродливый шрам, пересекающий белый лунный диск… — Шрам? Такой же, как мой? О нет, не мой! Это шрам на лице Ниры!»
— Корин, у тебя такой вид, будто ты увидел скрума, — воскликнул Сорен, влетая в дупло. Был уже разгар дня, и большая часть сов на дереве давно видела третий сон.
— Хотел бы я, чтобы она была… просто скрумом, — пробормотал Корин, не сводя глаз с угля, пылавшего за ажурной решеткой стального ларца в форме слезы, выкованного кузнецом Бубо.
«Значит, опять Нира!» — устало подумал Сорен. С тех пор как Корин добыл уголь и разгромил Чистых в краю Далеко-Далеко, о Нире и ее армии не было ни слуху ни духу. Они словно исчезли. Совы на Великом Древе были уверены, что Нира погибла, остатки ее войск разлетелись по свету, а уголь обрел надежное пристанище в когтях юного, но славного короля Корина. Иными словами, баланс сил окончательно изменился в пользу добра.
И только Корин до сих пор не знал покоя. Образ матери преследовал его днем и ночью, и он знал, что так будет всегда, независимо от того, жива Нира или погибла. В последнее время он совершенно извелся от тревоги. Сорен внимательно посмотрел на своего любимого племянника, не сводившего лихорадочно блестевших глаз с угля. Сердце его пропустило один удар, а желудок сжался от жалости. Длинный шрам, оставленный на лице Корина когтями его собственной матери, дрожал и корчился от немой боли. Сорен понял, что не может больше терпеть эту муку. Он должен прямо спросить племянника о том, что с ним в последнее время творится. Возможно, так будет лучше для них обоих.
— Корин, ты отлично знаешь, что нет никаких доказательств того, что она до сих пор жива. Но даже если это так, нам все равно нечего опасаться! Войска Ниры рассеяны, она не может причинить нам никакого вреда.
Резко повернув голову, Корин впился взглядом в глаза Сорена.
— Но, дядя… Ты знаешь, что Нира не просто злая сова, и если…
— Сейчас я дойду и до «если», — перебил его Сорен. — Я все понимаю, Корин. Я тоже читал эту легенду. Если Нира — хагсмара…
— Постой, дядя. Возможно, она не настоящая хагсмара, а некое порождение далекого прошлого, которое по прихоти судьбы или благодаря чарам темнодейства возродилось в теле обычной сипухи! И если это так… — Тут Корин замолчал, а потом с усилием продолжил: — Ты помнишь, что я сказал, когда мы дочитали первую легенду о Гранке?