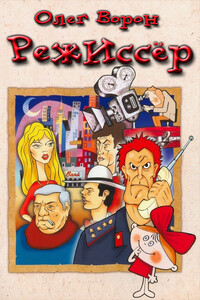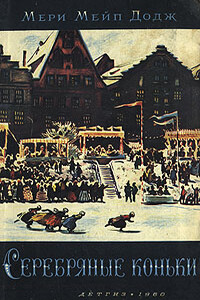Голтяев С. В.
54 года.
Ведущий инженер СКБ-63.
(Жалобы на боли в сердце с иррадиацией в левую лопатку, на одышку при подъёме на лестницу. Боли в пояснице. Плохой сон. Утомляемость.
Атеросклероз, коронаросклероз, стенокардия, артроз, радикулит, гипертония.)
Голтяева В. А.
33 года.
Русская.
Беспартийная.
Высшее.
Старший инженер СКБ-63.
Аттестационной комиссией от занимаемой должности не отстранялась.
Дисциплинированна. Сработалась с коллективом. Спортсменка.
В листочках с печатными вопросами и фиолетовыми ответами нет главного.
Главное у Веры из 23-й комнаты на нашем этаже — её глаза. Их взгляд. С тяжёлым, непонятным отчаянием. «Нет, и вы мне ничем не поможете!»
Я очень неравнодушен к ней, при муже.
Отразила ли это его психическая система?
С Семёном Васильевичем Голтяевым — её мужем, и. о. председателя месткома нашего Специального конструкторского бюро мы часто гуляем по асфальтированной аллейке эскабевского двора в обеденном перерыве. Как элитарные голавли, мы расхаживаем с ним среди прочей мелкой рыбёхи.
Мы разговариваем, как два равноправных эквивалента.
— Прохоров сачок.
— Лодырь, — с достоинством соглашается Семён Васильевич.
— Вот Дуликов — хороший парень.
— И план тянет. У трудяги с жильём полный абсурд. Сам обследовал.
— Кому дал квартиру?
— Прохорову.
Непонятен мне Семён Васильевич. Может быть, он непонятен и Вере?
Я искоса смотрю на Семёна.
На минуту я представил их рядом — Веру и Семёна. Ведь она должна его…
Тогда она такая же, как и мы все.
— Вера Андреевна, — звоню в её отдел. — Зайдите, если сможете. Тут кой-какие неувязки в вашей схеме.
Появляется сейчас же. Настроенная воинственно — ведь наши отделы вечные соперники.
— Ну, чего тебе ещё?
— Вера Андреевна. Вы же воспитанная дама. Вы всем не подаёте руки или только мне?…
Задерживаю её руку в своей. Срабатывают самые чувствительные датчики в её головной схеме. На выходе, в глазах Веры, еле заметное смущение, испуг, вопрос и неужели! — надежда. Эксперимент начат…
«Бернер не подписывает и по третьему заходу.
Пусть он сядет на моё место! Или — или.
В конце концов в другом НИИ меня возьмут с руками и ногами за те же деньги…»
Я не сразу замечаю, что наш длинный, похожий на тир коридор почему-то заставлен кульманами. За дверями — поп-музыка. Что за чертовщина! За служебной суетой пропустишь все праздники.
Какие праздники?! Открывается дверь, и я нос к носу сталкиваюсь с Бернером.
— Григорий Александрович! Ну где же вы?! — кричит Бернер.
Бог мой! Сегодня мы провожаем на пенсию зама конструкторского отдела Долинского. А я теперь непременное лицо на каждом юбилейном действе!
Каким большим кажется зал без кульманских досок.
Столы сдвинуты буквой П. Белые, в листах ватмана. На его белых крыльях мало салатов и мало бутылок. Наш старший техник Чеплаков имел точные инструкции от главного — исключения только для руководства.
На перекладине сейчас суетятся Бернер и Долинский. Озабоченно поглядывают на дверь.
— Григорий, сюда! — кричит Семён, и я с трудом втискиваюсь между ним и Верой.
Тем временем Бернер захватывает роль тамады.
— Наполнить бокалы! Приготовиться Григорию Александровичу! — с наигранной весёлостью возглашает Бернер.
Бернер.
Почему, когда рядом Бернер, мне плохо?
— Евгений Густавович! Это — экспромт! Прошу учесть трудоёмкость жанра.
Пока сам Бернер с напускной торжественностью говорит о юбиляре, Долинский обеспокоенно смотрит на дверь: будет или не будет руководство? Это вам не абстракции обеспеченного датского принца. Здесь определённая конкретность: будет или не будет сотрудничество после ухода на пенсию? Будут или не будут два рабочих месяца в году с сохранением пенсии?
Виват!
Важно входит руководство, направляясь к своей перекладине. Наша дирекция сильно смахивает сейчас на кабинет министров маленькой республики.
Заместитель Главного зачитывает адрес.
— Я всегда… — только и может произнести Долинский.
Святослав Игнатьевич напоминает сейчас пионера— воздухоплавателя перед прыжком с Эйфелевой башни… Вот наш Икар снимает котелок и дрожащей рукой вытирает холодный пот с лысины. К его спине привязывают крупногабаритные крылья. Крохотные санитары и игрушечная каретка с красным крестом где-то там в смертельном низу. Вот он взмахивает своими подвязанными крыльями и… цепко бросается на нашего Главного.
Главный неестественно багровеет в страстном поцелуе.
— Ур-ра! — кричит находчивый Бернер.
Стаканы сами опрокидываются, и быстро лезут в рот алюминиевые вилки с салатами и селёдочкой.
Юбилейная машина набирает обороты.
Семён — в «углу». Его просят в президиум.
На скатерти-ватмане я перекраиваю под Долинского бывшие в употреблении стихи для завхоза Парамонова.
Читаю.
Какие овации!
С искренней благодарностью ко мне подходит Долинский.
— Я всегда, — говорит он, уже совершенно пьяный.
— Слушай, почему это у тебя Долинский натирает полы? — шепчет в ухо Вера.
— Фу, чёрт! Проскочило от Парамонова.
Мы с ней незаметно переговариваемся.
— Как ты думаешь, какой сейчас уровень шумов?
— Децибел семьдесят.
— Ну что ты. Ещё каждый второй трезвый.
— Семьдесят, — настаивает Вера. — Два года работала в акустической лаборатории. По шкале громкости — шум морского прибоя.