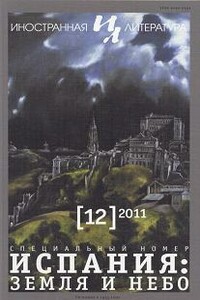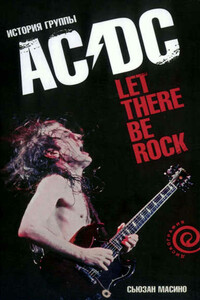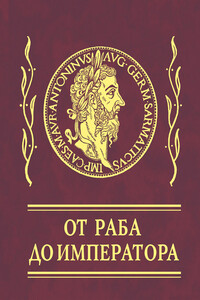Повесть
Мать вышла в хлев подоить корову и долго не возвращалась.
— Куда делась невестка? — спросила моя тетушка. Побежали в хлев. Видят — сидит моя мать подле коровы, а на руках у нее синеглазый ребенок.
Это был я.
* * *
Мать стояла на крыше, прижав меня к груди, и звала:
— Баба-Луна, баба-Луна, приди, забери этого шалуна…
Я взглянул туда, куда смотрела мать, и увидел луну в фиолетовых сумерках, сидящую на темно-синей горе. Луна была удивительно большая! С тех пор я никогда больше не видел такой луны. Радуясь ее огненному блеску, я одной рукой ухватился за волосы матери и подался вперед, чтобы быть ближе к луне, а другой сам стал манить ее. Мать взглянула на меня и вдруг еще крепче прижала к груди, еще ласковее. И хотя я потерял луну, мне было бесконечно приятно в объятиях матери…
Впервые окружающий мир — бескрайняя изумрудная даль, окаймленная цепью синих гор. — открылся мне с такой высоты. Сидя на руках у матери, цепко держась за ее волосы, я хотел улететь в ту изумрудную долину; мне казалось, отпусти меня она, и я улечу далеко-далеко.
На соседней крыше показалась какая-то женщина, перекрестилась, глядя на полную луну, и, обернувшись к нам, сказала:
— На воздух вынесла ребенка?
— Да…
— Как он у тебя поправился! Не сглазить бы…
Мать нежно ущипнула меня.
Я не слышал их больше, — меня захватила бескрайняя даль. Далеко в поле я видел устремленные ввысь минареты и тополя в сиреневых сумерках. С крыши видны были дома; я впервые увидел наш дом. До сих пор меня выносили только на улицу или подносили к окну; здание напротив мне было уже знакомо, я хорошо запомнил его, а нашего дома я никогда не видел со стороны, и как он выглядел, не знал. Когда же мать прошла на другой конец крыши, мне открылся вид на наш сад: бассейн казался малюсеньким, кусты и даже большие деревья — крохотными, Гого, поливавший цветы, — карликом.
В лиловом тумане сумерек носились ласточки, тысячи ласточек. С пронзительным криком они проносились низко над землей, так низко, что, казалось, вот-вот заденут меня крылом. А когда я начинал следить за какой-нибудь из них, хотел представить линию ее полета, — неожиданно и замысловато линия спутывалась в клубок.
Я долго резвился на руках матери, потом, утомившись, обвил руками ее шею, и голова моя устало склонилась к ней на грудь. Я проснулся, когда было уже утро. Сияло солнце. Мать еще спала. Я поднялся, подошел, прижался к ней. Не открывая глаз, она одной рукой крепко обняла меня.
1
Отец мой был помещиком и важным должностным лицом в провинции.
Но начать я должен с его смерти.
К смерти он приготовился так, как жених готовится к свадьбе. Еще за месяц до этого (тогда он еще был на ногах и чувствовал себя довольно бодро, но знал, что смерть подбирается к нему) он позвал плотника и вместе с ним отобрал длинные ореховые доски.
— Эта не пойдет, — сказал отец и, отбросив сучковатую доску в сторону, заменил ее другой.
Затем он вытянулся на полу, на персидском кирманшахском ковре, и плотник снял с него мерку.
— Высокий ты у нас, хаджи-эфенди[1], как чинара, — заметил плотник.
Отец безучастно улыбнулся.
И в присутствии отца, строго следуя его советам и указаниям, плотник сколотил гроб.
Уединившись в одной из комнат, горько плакала мать, а в это время плотник перебрасывался с отцом шутками, рассказывал смешные истории и, частенько пропуская стопку водки, отмерял ореховые доски, пилил, строгал, сгибал и полировал их.
— Уста Маркар, чтоб ни единого гвоздя!
— Будет по-твоему, хаджи-эфенди.
А я, ничего не подозревая, с любопытством наблюдал за работой уста Маркара. Я думал, что отец снова собирается в путешествие, в Стамбул или другой далекий город, откуда наверняка привезет мне гостинцев — он всегда привозил мне гору подарков.
Гроб уста Маркар смастерил на славу, не хуже, чем сделал бы стол или шкаф.
— Скажу вам, хаджи-эфенди, этак лет двадцать тому назад… — И уста Маркар рассказывал очередную историю, смеялся и полировал доски.
Но когда отец попросил выйти всех домашних из комнаты, чтобы в последний раз лечь в гроб и проверить, так ли он сделан, как надо, — даже уста Маркар не выдержал и в ужасе прошептал:
— Господи всемогущий, ну и сердце у этого человека!
На дворе все плакали, разделяя горе моей матери. Заплакал и я.
Мне сказали — отец скоро умрет… Страх обуял меня и, возрастая с каждым часом, к вечеру овладел всем моим существом.
Я стал бояться всего в доме — открытых дверей в сарае, колодца, сундука под лестницей, куда мы прятались во время игр.
Когда отец открыл дверь, я один подошел к нему.
Я обнял его, уткнулся головой ему в грудь и глубоко вдохнул запах его рубахи.
Запах этот успокоил меня, рассеял страх.
Отец тоже обнял меня. Я заглянул ему в глаза и увидел в них слезы. Материнские слезы мне были знакомы, но отцовские…
— Сынок мой, синеглазое дитя, — прошептал он и расцеловал меня.
Один за другим все вошли в комнату и окружили отца. Он сидел на своей постели, обняв меня. Отец поднял голову, посмотрел на вошедших и, увидя опухшие от слез глаза, вскипел:
— Что выстроились? Уходите! Все удалились.
Слуга взвалил на спину гроб и вынес его. Мрачный и грустный, отец склонился надо мной. Вскоре пришел уста Маркар.