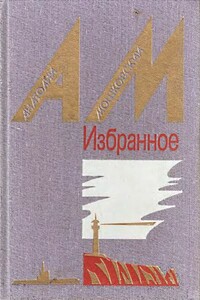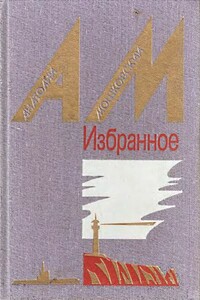Дедушка у Алехи был очень стар. Все его лицо вдоль и поперек рассекали глубокие морщины, а глаза так выцвели, что и не скажешь, какого они были цвета: голубые, серые или зеленые. Широкая седая борода его давно уже приняла желтоватый оттенок. Ходил он, шаркая ногами по земле, и обеими руками опирался на суковатую палку. Кровь плохо грела дедушку, и даже в августовский зной он выходил со двора в черных, источенных молью катанках.
Говорили, что когда-то он был самым крепким парнем в поселке. Избу, где они жили, дедушка сложил полвека назад своими руками из толстых сосновых бревен. Лодку, которую обычно тащат трое, он легко вскидывал на спину и, придерживая за борта, один нес к Байкалу. В кузнице он запросто сгибал и разгибал руками железные болты. Однажды, еще в старое время, по дороге с покоса внезапно пала лошадь, дедушка впрягся в оглобли и четыре версты без отдыха катил огромный воз сена. И еще рассказывали в поселке, что как-то дедушка неосторожным ударом кулака убил медведя, которого обложили и хотели взять живьем для иркутского купца охотники; они потом долго сердились на него за этот удар.
Однако Алеха мало верил рассказам. Дедушка был настолько дряхл, что, глядя на него, трудно было поверить во все эти доблести.
Когда-то у него было много сыновей. И всех он пережил, всех до единого. Младший его сын, рыбак, утонул в Байкале в Малом море; подула «сарма» — свирепый штормовой ветер — и перевернула баркас. Второй сын, Алехин отец, с декабря сорок первого года лежит в братской могиле под Наро-Фоминском. Из части писали: он подбил гранатой немецкий танк, но второй, шедший за ним, раздавил его — это Алеха собственными глазами читал. Остальные, старшие сыновья, погибли еще в гражданскую войну.
Жил дедушка с невесткой Глашей и с ним, четырнадцатилетним Алехой. Мать работала санитаркой в больнице. Она была еще не старая: плотная, быстрая — тридцати пяти еще не стукнуло. Ходила в белой вышитой крестиками кофточке, энергично двигая полными руками; черные, без единой сединки волосы собирала венком — заглядишься! Глаза ее смотрели бойко и уверенно, голос звучал повелительно. Она была мало похожа на вдову. Иногда к ней в гости приходил Степан, механик с лесопилки, рослый парень лет двадцати пяти, с жестким чубом из-под морской фуражки и тонкими, красиво подбритыми бровями. Тогда Глаша посылала Алеху в магазин и, непривычно суетясь, напевая и краснея тугим лицом, расставляла на льняной скатерке щедрую закуску. Алеха в таких случаях улетучивался из дому: не к нему пришли в гости. Зато дедушка всегда думал, что пришли и к нему, и радовался, но мать в таких случаях, как правило, советовала ему:
— Пошел бы, старый, просвежился… Тебе воздух полезный…
Дедушка не возражал. Опираясь обеими руками на лавку, медленно поднимался, выпрямлял спину, тянулся к палке, стоявшей у печи, и выходил из избы. Перейдя через улицу, он садился на камень и смотрел на Байкал. Байкал, как верный пес, подползал к самым его ногам и в приступе невысказанной ласки норовил лизнуть длинным языком валенок.
Иногда Алехина мать, готовясь вечером ставить самовар, злилась:
— Вся вымоталась на работе. Хоть бы воды, старый, принес… Толку от тебя…
Дедушка был глуховат и, приставив к уху ладонь, нагибался и переспрашивал. Тогда Алеха, во всем подражавший матери, подмигивал ей и орал ему на ухо. Дедушка брал пустые ведра, и мальчишка, смеясь, смотрел, как он плетущимся шагом ползет за водой. Да, пользы от дедушки не было никакой, а медлительность и глухота раздражали.
Он был молчалив. Иногда за целый день не произнесет ни слова. Просыпался дедушка рано, с рассветом, лежал на полатях, тихо смотрел в потолок и о чем-то думал. О чем, никто не знал. Да и некогда было узнавать — у Алехи с матерью полно было своих неотложных дел.
Но вот однажды утром, кончив пить чай, дедушка помял обвисшие усы и вздохнул:
— Ну теперь уже скоро. И за мной пришла она, у порога стоит, — Дедушка, прищурившись, смотрел на Алеху своими старыми мутными глазами. Мать насмешливо повела бровями. Глядя на нее, мальчишка не удержался:
— Чего ты мелешь, дед? Никто за тобой не пришел. Кому ты нужен такой… Ну кому?
Дедушка промолчал. Но через полчаса, когда мать ушла в больницу, а Алеха собрался в тайгу за смолой, дедушка вдруг взял его за руку и так пристально, так требовательно посмотрел из-под густых неаккуратных бровей ему в глаза, что сердце у Алехи сдавилось и замерло.
— Пойдем, — сказал дедушка.
Он всегда был такой послушный и безучастный, что Алеха, пораженный внезапной переменой в нем, испуганно вскочил с лавки и последовал за ним.
Шел дедушка медленно, то и дело опираясь на палку. По дороге им встречались сидевшие на завалинках старики. Он церемонно, с некоторой чопорностью, свойственной старости, здоровался за руку с каждым.
Алеха покусывал губу и раздумывал, куда это тащит его дедушка. То сидел неподвижно, молчал, а тут вдруг сорвался.
Перебросившись двумя-тремя словами, дедушка брал под козырек (у него сохранились многие привычки военного человека: как-никак воевал в трех войнах — японской, германской и гражданской) и шел дальше.