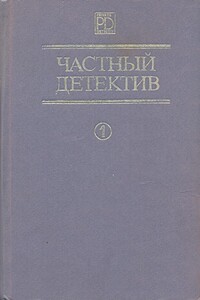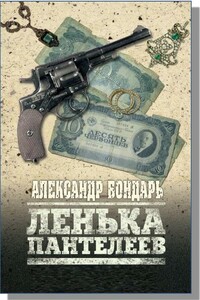Раньше сюда иногда заглядывали мальчишки, чтобы побегать и полазить между осевшими и полуразрушенными сараями. Им очень нравилось здесь.
Когда-то, ещё до войны, сюда свозили колхозное сено и солому. Но это было давно. Военное время диктовало свои законы, и тем, кто этого не понимал, приходилось плохо. Народу объявили, что расхищение советской соломы — занятие небезопасное, и каждого, кого поймают с поличным, будут судить «по всей строгости».
С тех пор, когда комиссар Криволобов, тот самый, у которого яркая алая лента пересекала папаху, расстрелял здесь четырёх беспартийных и одного коммуниста, пропала не только у взрослых, но и у детей всякая охота появляться тут лишний раз. И остались стоять чёрные сараи, молчаливые, заброшенные.
Только Маша заходила сюда часто не потому, что ей не было страшно, но потому что здесь как-то особенно тепло грело солнце, приятно пахла горько-сладкая полынь, и спокойно жужжали шмели над ярко-красными головками широко раскинувшихся лопухов.
А убитые?.. Так ведь их давно уже нет! Их свалили в общую яму и забросали землей. А старый нищий Авдей, тот, которого боится Топ и прочие маленькие ребятишки, смастерил из двух палок крепкий крест и тайком поставил его над могилой. Никто не видел, а Маша видела. Видела, но не сказала никому.
В укромном углу Маша остановилась и внимательно осмотрелась вокруг. Не заметив ничего подозрительного, она порылась в соломе и извлекла оттуда несколько книжек.
Перебрав их, она остановила свой выбор на томике стихов Пушкина. Маша раскрыла и начала читать. «Я помню чудное мгновенье…», «Мороз и солнце. День чудесный…», «Я вас любил. Любовь ещё быть может…»
Маша перечитывала эти стихи и начисто забывала про всё на свете. Иногда, она любила мечтать. Отодвинув в сторону книжку, она ложилась на солому и закрывала глаза. Маша воображала себя русской барыней, изящной великосветской красавицей. Старинное платье, украшенное жемчугами, бал, сверкают хрустальные люстры, блистательные кавалеры, склоняясь, целуют ей руки и говорят комплименты… Маша лежала на соломе и улыбалась собственным мыслям и смешным фантазиям.
Она так замечталась сегодня, что спохватилась только тогда, когда зазвякали колокольчики возвращающегося стада.
«Какой ужас, — подумала она. — Мать теперь ругаться будет, а то и есть, пожалуй, не оставит». И, спрятав свои книжки, она стремительно пустилась домой, раздумывая на ходу, что бы соврать такое получше.
Но, к величайшему удивлению, нагоняя она не получила, и врать ей не пришлось.
Мать почти не обратила на неё внимания, несмотря на то, что Маша чуть не столкнулась с ней у крыльца. Бабушка звенела ключами, вынимая зачем-то старый пиджак и штаны из чулана. Топ старательно копал щепкой ямку в куче глины.
Кто-то тихонько дёрнул сзади Машу за юбку. Обернулась — и увидела печально посматривающего мохнатого Шмеля.
— Ты что, дурачок? — ласково спросила она и вдруг заметила, что у собачонки рассечена чем-то губа.
— Мам! Кто это? — гневно спросила Маша.
— Ах, отстань! — досадливо ответила та, отворачиваясь. — Что я, присматривалась, что ли?
Но Маша почувствовала, что мать говорит неправду.
— Это дядя сапогом двинул, — пояснил Топ.
— Какой ещё дядя?
— Дядя… серый… он у нас в хате сидит.
Выругавши «серого дядю», Маша отворила дверь. На кровати она увидела валявшегося в солдатской гимнастёрке здорового детину. Рядом на лавке лежала казённая серая шинель.
— Головень! — удивилась Маша. — Ты откуда?
— Оттуда, — последовал короткий ответ.
— Ты зачем Шмеля ударил?
— Какого ещё Шмеля?
— Собаку мою…
— Пусть не гавкает. А то я ей и вовсе башку сверну.
— Чтоб тебе самому кто-нибудь свернул! — с сердцем ответила Маша и залезла за печку, потому что рука Головня потянулась к валявшемуся тяжёлому сапогу.
Маша никак не могла понять, откуда взялся Головень. Совсем ещё недавно забрали его в армию, а теперь он уже опять дома. Не может быть, чтоб его так просто отпустили.
За ужином она не вытерпела и спросила:
— Ты в отпуск приехал?
— В отпуск.
— Вон что! Надолго?
— Надолго.
— Ты врёшь, Головень! — убеждённо сказала Маша, — Не отпускают сейчас в отпуск надолго, потому что — война. Ты дезертир, наверно.
В следующую же секунду Маша получила здоровый удар по шее.
— Зачем девчонку бьёшь? — вступилась за Машу мать. — Нашёл воевать с кем.
Головень покраснел ещё больше, его круглая голова с оттопыренными ушами (за которую он и получил кличку) закачалась, и он ответил грубо:
— Помалкивайте-ка лучше… Кулацкие недобитки… Дождётесь, что я вас из дома повыгоню.
После этого мать как-то съёжилась, осела и выругала глотавшую слёзы Машу:
— А ты не суйся, дура, куда не надо, а то ещё и не так попадёт.
После ужина Маша забилась к себе в сени, улеглась на груду соломы за ящиками, укрылась материной поддёвкой и долго лежала не засыпая.
Потом к ней пробрался Шмель и, положив голову на плечо, взвизгнул тихонько.
— Что, дружок, досталось сегодня? — проговорила сочувственно Маша. — Не любит нас с тобой никто… ни Машу… ни Шмельку… Да…
И она вздохнула огорчённо.
Уже совсем засыпая, она почувствовала, как кто-то подошёл к её постели.
— Машенька, не спишь?