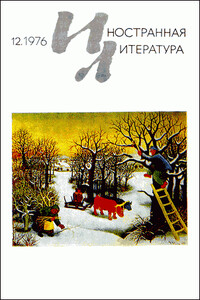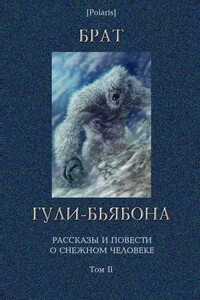Он бросил на песок сандалии и сумку.
— Отличнейшее место, чтобы сложить поэму, — решил он.
До сих пор ему никак не удавалось найти время, зато нашел он место, чтобы создать прекрасную поэму и миру швырнуть в лицо. К большому сожалению, наш мир совсем не в форме: податлив стал и мягок он, как клецка, приемлет все без критики, без злобы, но и без удивления, да к тому ж обычно не поймешь, где у него лицо. Что ни швырни, исчезнет без следа.
Во всяком случае, тут место без изъяна: сливаются могучие стихии — река и море, пресное с соленым, с прозрачным темное и теплое с холодным. Людей здесь нет, а рыбы сколько хочешь. Песок все прибывает, море мостит им берег, словно застилая волнистую просторную постель.
Поэт идет по ней, слагает возвышенные строфы, проверяя на слух звучание рожденного стиха. Коль вышло плохо, повернет он вспять и сложит заново, поэт упорный, все вновь и вновь оттачивает рифмы — их искры сыплются из полнозвучных слов. Потом идет он дальше, продолжая нанизывать на замысел слова. А пляж велик, поэма будет длинной, и море рокотом поэта подбодряет.
Вот стая чаек с моря налетела, а с ней пришли и первые сомненья. Слова застряли в горле, сбился ритм, и новый стих прервался в половине. Неосторожно поэт подумал о читателях своих. Возможно, те сочтут поэму слишком длинной и в раздражении посмотрят на часы. Отметят в ней серьезные огрехи: мол, нет ни музыки, ни образов, ни смысла, не чувствуется личности поэта, ни слова о ковбоях, о боях, о гангстерах, совсем нет трупов, о спорте ничего, и неизвестно, о чем в поэме речь.
Он замер, будто громом пораженный, слова в уме смешались, взбунтовались и шагу не дают ступить. Он вновь о тех подумал горемыках, кто долгие вечерние часы проводит, к телевизору прилипнув, у окон сидя иль торчат в кафе, кто книгу полистает лишь от скуки или из чувства долга, может быть. И стало жаль ему своих усилий, и жаль слова, рожденные напрасно, прошедшие мимо ушей людских бесплодно, погибшие бесследно.
Он огляделся. Море старательно затерло отпечатки ступней его. Песок как скатерть гладкая и спереди и сзади. Ему казалось, что упал он прямо с неба и шагу уж ступить не сможет никогда.
— Ужасное тут место для поэта, — решил он. — Пляж чрезмерно длинный, и море чересчур бурливое...
Слова поэмы стал он распускать, как распускают петли на вязанье, и двинулся в обратный путь по пляжу. Пока дошел он до исходной точки, исчезла вся поэма без следа.
— Ну ладно, прочь, тоска, — утешил он себя, — я что-то накропаю завтра в толпе, в автобусе, и будет в самый раз.
Я оплакиваю друга, талантливого скульптора, которого сгубила любовь. Он работал над моим бюстом в гипсе и не успел закончить. И меня не обессмертил в скульптуре, и сам не вошел в историю искусства. Думаю, что его место в истории Любви.
Мы были близкими соседями — когда он рубил камень, осколки летели ко мне в окно. Я знал его модели, иногда он посылал их ко мне для обозрения, хотя я и не художник. Он считал человеческое тело, особенно женское, произведением искусства и даже одно время придерживался теории, что его можно творчески формировать путем соответствующего питания...
Кроме этих эстетически-диетических размышлений, запечатленных на бумаге, он оставил мраморную фигуру в натуральную величину, изображавшую женщину, ждущую чего-то. Я знал ее, она не любила ждать, имела красивого мужа и сама была красивой. Они согласились позировать оба, только муж не сохранился.
Помню день, когда погибло его изваяние. Мы сидели в студии, скульптор созерцал статую этой женщины. Он уже тогда был влюблен в нее и мог говорить о ней часами, не упоминая ни словом ее мужа, хотя его изображение стояло тут же. Продолжая глядеть на статую, он оказал о ней что-то особенно теплое. И тут фигура мужа словно шевельнулась, скрипнула, а может, это скрипнул пол. Казалось, муж собрался отомстить за честь жены и сейчас разделается, с соперником. Скульптор схватил молоток. Как ни странно это звучит, но действовал он словно бы в порядке самозащиты и голову мужу расколотил, спасая свою жизнь. Статуя женщины при этом даже не вздрогнула.
После этого любовь скульптора к своему творению расцвела еще ярче, опустошая душу творца. Целыми днями глядел он на статую, шептал ей что-то на ухо, о чем-то умолял. Обычно безразличный к своей внешности, он стал бриться, причесываться, тщательно одеваться — он хотел понравиться ей любой ценой. Приносил статуе цветы, играл ей на арфе, читал стихи. Он углубился в мифологию, штудировал легенду о Пигмалионе. В его глазах я видел пламя надежды.
Желая отвлечь его, я как-то заглянул к нему с моей знакомой, женщиной из плоти и крови, причем весьма привлекательной. Но и ей не удалось победить статую, живая женщина оказалась посрамленной. Признаться, после этого и я к ней охладел.
Потом я попробовал подействовать на него словесно.
— Статуя прекрасна, дорогой маэстро, но холодна. Ведь вы же не можете жить с камнем.
— Случается, что камень оживает от большой любви... Галатея ожила. Почему бы и моей не ожить?.. Вчера вечером у нее заблестели глаза... И рука была теплее, чем обычно... А губы — жаль, что вы не видели ее губ — они дрогнули!