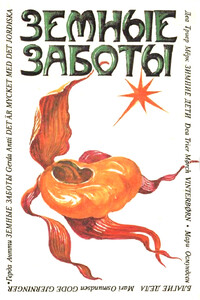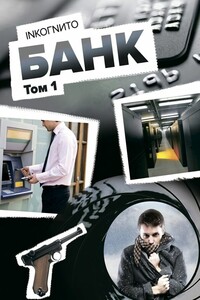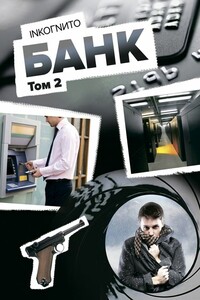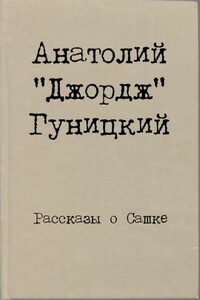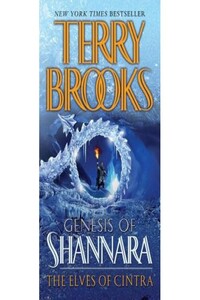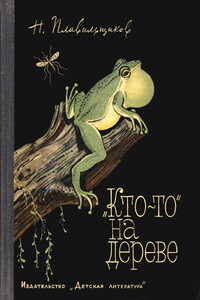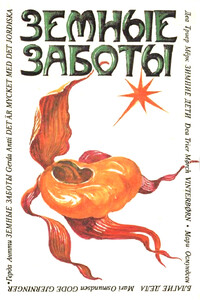У нас гости, мы сидим на веранде и пьем кофе. Гости — это моя сестра Гун (правда, она живет у нас постоянно, мы сдаем ей верхний этаж), Ёран, брат Стуре, который со своей Ингрид свалился на нас неожиданно, но завтра, слава Богу, они уезжают, и, наконец, Дорис и Хеннинг, мы покричали им с берега — они ставили на озере сеть. Дорис и Хеннинг — наши соседи и близкие друзья, вот уже много лет они арендуют усадьбу, доставшуюся нам в наследство от родителей Стуре и Ёрана, до них на усадьбе хозяйничал Оссиан, отец Хеннинга, потому что отец Стуре умер молодым, я его уже не застала. Когда я раздумываю о себе и о своей жизни, а делаю я это часто, почти постоянно, поскольку думать о чужой жизни мне незачем, в моих мыслях всегда присутствуют Дорис и Хеннинг, ну и Стуре, само собой. Жизнь все равно что ландшафт, который тебя окружает, и, не будь Дорис и Хеннинга, боюсь, что в нашем ландшафте зияла бы широкая просека.
Я угощаю жареной салакой, мы едим салаку почти каждую пятницу. С понедельника по четверг я работаю, а в пятницу — выходная и езжу закупать продукты на целую неделю. Салака замечательная, в рыбной лавке она сверкала во льду, как свеженачищенное серебро. В лавке у нашего доброго торговца рыбой, у которого затылок покрыт длинным мягким пухом.
Для нас салака лакомство, а вот для Ёран и Ингрид — сомневаюсь. Они предпочитают говяжью вырезку и прочие деликатесы, если, конечно, верить всему, что Ингрид болтает про обеды, на которых им приходится бывать. Ингрид расписывает угощение, а Ёран — гостей. Не знаю, может, Ёран хочет показать, что он выше таких пустяков, как еда, однако, когда Ингрид заводит свои рассказы про то или другое блюдо, он так и сияет от удовольствия.
У нас Ёран прикидывается до того простым, что проще некуда. Не дай Бог, кто-нибудь заподозрит, будто он мнит себя выдающейся личностью, хотя на самом деле именно этот грех за ним и водится. Хочешь не хочешь, а то и дело приходится присутствовать на официальных обедах, сетует Ёран, но в общем терпеть можно, хотя иногда застольная беседа ведется на разных иностранных языках, чтобы все гости могли принять в ней участие.
— Ой, до чего же все они простые и милые люди, — говорит Ингрид, — с ними так приятно обменяться впечатлениями.
— Конечно, — вторит ей Гун. — Вы-то лучше других понимаете, что значит оказаться заживо похороненной в этой дыре. Я бы считала за счастье хоть изредка поговорить на иностранном языке! Порой я чувствую себя как рыба, выброшенная на берег.
— В сентябре мы едем в Лондон, — говорит Ингрид. — Ёрана посылают туда для обмена опытом. Я обожаю Лондон!
— Еще бы! От Лондона все без ума, кто хоть раз там побывал. Я его знаю как свои пять пальцев. Так, значит, в сентябре? Мы с вами там встретимся. Я еду в Грецию, но побываю и в Лондоне. Оставьте свой адрес. Я покажу вам город. Для нас с Харальдом Лондон — вторая родина.
Это предложение Ёран и Ингрид оставляют без ответа.
Есть еще один человек, который со смаком рассказывает, чем его угощали на деловых встречах и в командировках, это Бу, мой зять. К сожалению, он хвастун, и с этим ничего не поделаешь. Я не спорю, еда — вещь важная, и говяжью вырезку я тоже люблю, но только если во мне и есть что-то хорошее, то это никак не зависит от того, что я ем. Уж если на то пошло, так мы каждый год едим мясо, которое им не купить ни за какие деньги. Осенью Дорис и Хеннинг продают нам теленка, его мясо тает во рту. И какие бы там у Ингрид ни были достоинства, а готовить она не умеет, для этого она слишком рассеянная и брезгливая.
Взять хотя бы салаку. Надо было видеть, как Ингрид ее готовила, это тоже происходило у нас. Она вывалила всю рыбу в большую миску и залила водой. Я думала, она ее просто ополоснет, а она так терла и скребла несчастную салаку, что несколько штук изорвала в клочья. И мыла ее в нескольких водах. Я как могла старалась помешать ей: что ты делаешь, говорю, ведь рыба потеряет весь свой вкус! Но Ингрид ответила, что она умеет готовить и что кровь вызывает у нее отвращение. Без всякого удовольствия жарила я потом серые ошметки, хорошо еще предупредила Стуре, чтобы он не спрашивал, откуда у нас такая салака, а знал, что это Ингрид приложила к ней руку. Ингрид до смерти боится всякой заразы, просто мания какая-то, даже не знаю, как ее назвать; она, например, обязательно вымоет помидоры, хотя я только что принесла их с грядки, всегда приезжает со своей наволочкой, пахнущей лавандой — без этого запаха она, видите ли, не может уснуть. Раньше я считала, что она могла бы прихватить с собой и простыни, все равно едут на машине, но я ни разу ничего ей не сказала — мне, конечно, легче сушить простыни, чем ей; по-моему, и она тоже так думает.
Ингрид и Ёран до того чувствительны, что просто беда. Нужно быть очень осторожной, они как больные гемофилией, у которых чуть что — сразу кровоизлияние. Они живут словно бы в теплице и так оберегают друг друга, что ущипнешь одного, а вскрикнет другой. При такой их чувствительности очень непросто найти безобидную тему для разговора, особенно с Ингрид; сколько раз я невольно обижала ее, а узнавала об этом уже спустя некоторое время. Но не от нее и не от Ёрана, а от Стуре: Ёран жаловался ему, что Улла в разговоре с Ингрид допустила бестактность и очень обидела Ингрид; но к тому времени мы со Стуре уже никак не могли вспомнить, о чем шла речь; мы со Стуре тоже не такие уж толстокожие, но иногда я чувствую себя просто свиньей, хотя это и несправедливое сравнение, свиньи очень даже чувствительные животные. Что же такого я могла брякнуть, чтобы из-за моих слов Ингрид ворочалась всю ночь напролет? Самое забавное, что виновата всегда только я, к Стуре они не придираются, и, по-моему, это главным образом оттого, что мужчин уважают больше, чем женщин.