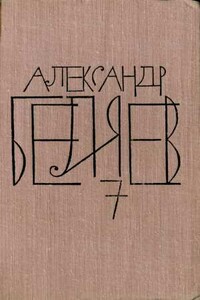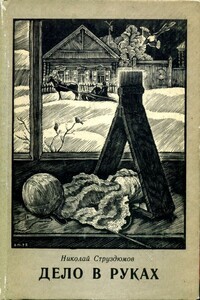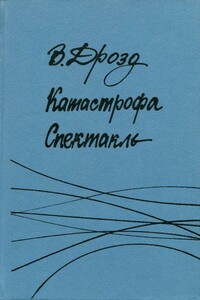— И-и-го-го! — тоненько и протяжно неслось над полем.
Шлея врезалась Гале в плечо, пот туманил глаза. Косой солнечный луч проглянул сквозь рваную тучу, внизу синей молнией вспыхнул Днепр.
— И-и-го-го! — тихонько подтянула Гале Поночивне Катерина, шедшая в супряге, — один бог знает, засмеялась или заплакала она.
— Но, девки, но! Кось-кось! Добре ржете. Скажу вот старосте, чтоб овса поменьше давал!.. — осклабился из-под копны Федька Самострел. Прозвище у него давнее: как-то, еще мальцом, нашел в глинище[1] патрон и айда носиться с ним по селу — бегал, пока палец на правой руке не оторвало. До войны Федька в колхозе сторожевал, а пришли немцы — бригадиром пристроился. Одно слово — бурьян, где ни посей — взойдет. Рукавом рубахи Поночивна утерла пот с лица. За клином нескошенной, уже потемневшей гречихи Сашко собирал колоски. Полотняная торбочка волочилась за ним по высокой стерне — пшеницу нынче серпами жали. Над Микуличами набухало, тяжелело ливнем небо. Хоть бы меньшенькие ее — Андрей с Ивасиком — под дождем не промокли. Как бежала в поле, наказывала: глядите мне, только капать начнет — вы мигом в хату. Сашко бы приглядел за ними, да вот с собой его взяла, все ж какой колосок схватит — зима за плечами, а она не пощадит, спросит, почему с пустыми руками остался.
Картошку со своей делянки Галя уже выкопала и в погреб ночами перетаскала. А грядку, что у хаты в низине, поздно засадила, ботва и теперь еще зеленая, хоть косой коси. Люди, правда, спешат со своим управиться, будто чуют что. А когда копать-то — староста каждый божий день в поле гоняет.
Над селом, в долине, полыхнула молния. Натянутая на груди у Гали постромка — тр-рах! — лопнула, как выстрелила. Галя упала, ударилась локтями об иссохшую землю, кожу до крови содрала:
— А, черти б ее драли, твою немецкую власть! На гнилых веревках хочет в рай въехать!
— Она такая же моя, как и твоя, — лениво огрызнулся Самострел.
— Врешь, я вокруг старосты подбрехачем не вьюсь.
— Каждый душу свою спасает как может.
— Ищи снега в петров день… Да если и была когда-то у тебя душа, давно за три гривенника продал.
— Ну-ну-ну, ты, Галька, полегче: беги да оглядывайся.
— Оглядывайтесь теперь вы, черти зеленые! Вона где уже громыхает…
Сказала и испугалась. Не за себя, клячу загнанную, за детей. Вернутся наши, ступит Данило на порог — где мои детки, спросит, где дружина?[2] Поднялась Галя с земли, завязала узлом постромку, выровняла распашник. Пахать под озимь не успевали, Шуляк приказал сеять по стерне, а распашником приваливать; вместо коня — по две женщины в упряжке: кони или передохли, или немцы забрали.
Самострел положил Гале на плечо свою культю, дохнул самогоном:
— Никак, Поночивна, в Провалье захотелось? Шуляк охочих ищет, так я могу порекомендовать… Петухов он еще не забыл.
— Так я о чем — гроза, вишь, над селом, — сникла Галя.
— И я о том же, — недобро усмехнулся Федор и подался к копне.
Провалье вспомнил… Дед Лысак, что на краю села живет, пошел как-то утром к Пшеничке воды набрать, а вода красная. Пшеничка через Провалье течет. Из Листвина, из тюрьмы, людей ночами вывозят и в Провалье расстреливают. Из микуличан не один уж там остался.
— Ну, девки, вы того… а работать надо. Отдохнем после победы великой Германии, как говорит наш пан староста… — Самострел снова угнездился под копной.
— Тпру, кобылка, тпру, — приговаривала Галя, впрягаясь в распашник. — Ногу, каторжная! Поползем, Катерина? Для немца сеем, — прибавила на ухо, — а собирать, бог даст, для своих будем. Хоть и смеялась ты над моей ворожбой, а пивни[3] не сбрехали.
С ворожбой тогда дело было так. Сцепились соседские петухи — рябой и красный. Соседка разгоняет, а Поночивна к ней: «Баба Марийка, не трожьте, я вам заплачу за пивня. Хочу поворожить, вернутся ли наши. Тот вот рябой пусть за Гитлера, а красный — за Сталина будет. Только, чур, никому ни словечка, не то повесит нас староста». Тут рябой как долбанет красного, тот и завалился на бок. «Да неужто проклятая немчура над нами хозяйновать будет!?» — вскрикнула Галя. А красный петух оклемался и пестрого за гребень — дерг-дерг. Снова сцепились, красный — тюк! — пестрому глаз вышиб, насмерть забил. На радостях дала Поночивна бабе Марийке три рубля за петуха. А та еще прежде его Фросине посулила: без куриного холодца, вишь, лейтенант Курт, что к молодухе наезжал, не желал и самой Фросины. Явилась Фросина за петухом, а баба Марийка по простоте все ей и выложила. Фросина, конечно, Шуляку доложила — одно кодло. На другой день шла Галя с Сашком мимо сборни[4], староста из окошка зовет: «А иди-ка сюда, такая-рассякая, расскажи-ка, как там петушки бились?..» Сашко заплакал: «Что вы, мамо, наделали? Нет у нас батьки, не будет и матери».
Вошла Поночивна в сборню, Шуляк за столом сидит, плеткой поигрывает: «Вот я тебя, Галька, в подвал кину, а утром в Листвин под конвоем спроважу, так и внукам своим закажешь агитацию разводить». Рожа у старосты масленая, красная от водки — едва не лопнет. Смотрела Галя и дивилась: неужто с ним она миловалась смолоду, тыны подпирала? Но выкручиваться как-то надо. Заголосила: «Да кто ж это вам, пан староста, такого наплел?! Да неужто можно птицу неразумную по своей воле стравить, биться заставить? Или я ведьма какая?» Наговорила с три короба, умаслила, «паном старостой» величала, уж очень любил Шуляк, когда его так называли, — отпустил. Потом, когда ходила на мельницу, встретила Фроську. Та спрашивает ехидно: «Как там, Галька, петушки бились?» А Поночивна ей прямо в глаза: «Продажница ты!..»