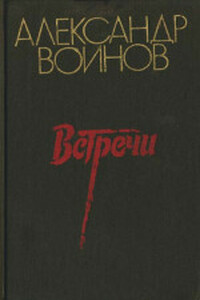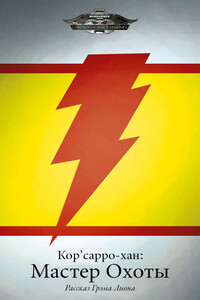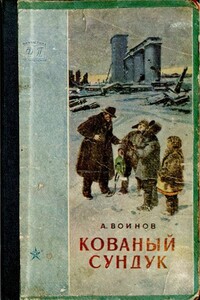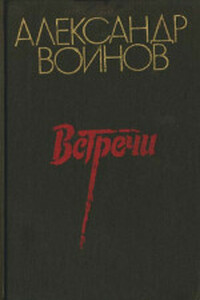1
Поток машин устремлялся по улице Горького к стадиону «Динамо». Июньский день был раскален. Пахло асфальтом, и вдалеке, сквозь дрожащую дымку, дома виднелись оранжевыми, желтыми, зелеными пятнами, словно и их растопило солнце.
Машины блестели, рассыпая тысячи ярких искр. В этом сиянии улица казалась утренней и праздничной.
Алексей вел машину искусно, ловко пробираясь на большой скорости в сложном лабиринте, который образовывали автомобили, идущие впереди и по бокам.
— Так можно разбить машину, — сказал я наконец.
Алексей повернул ко мне смеющееся лицо:
— Что ж, и это иногда приносит пользу.
Перспектива провести два часа на стадионе под палящим солнцем не очень меня увлекала. Я не любитель футбола. С гораздо большей пользой для себя можно полежать на берегу Москвы-реки, где-нибудь в Серебряном бору.
Но он был упрямый человек и вез меня прямо в пекло на самой большой скорости, которую позволяло движение.
И все же, когда впереди показались флаги стадиона и машины стали притормаживать, так как многотысячная толпа, выходящая из метро, запрудила улицу, я попытался в последний раз воздействовать на него.
— Нам, наконец, надо серьезно поговорить, — решительно сказал я. — Все сроки прошли, я больше ждать не могу. Редактор…
— Пошли ты своего редактора, — перебил он, — к черту. Война кончилась три года назад. Я успел уже окончить два курса академии, а он все еще застрял под Курской дугой.
И, засмеявшись, начал обгонять очередную машину.
— Осторожнее! — сказал я.
— Эх, милый, — улыбнулся он, — не знал ты меня до войны, когда я был шофером… Я бы показал тебе, что такое настоящая езда.
— Значит, ничего больше не расскажешь? — спросил я, выдержав суровую паузу.
Он молча пожал правым плечом. Я почувствовал, что задание редактора останется невыполненным. В самом деле, что еще мог Алексей рассказать о себе? Журналисты написали о нем десятки очерков, в которых подробно изложены все его боевые подвиги.
Впервые мы встретились на Курской дуге, накануне пятого июля сорок третьего года, когда началось великое сражение. Он только что прибыл со своей танковой частью и командовал средним танком.
Я работал тогда военным корреспондентом фронтовой газеты и должен был написать очерк о молодом танкисте. Командир части указал на старшего сержанта Алексея Сорокина. И под танком, куда мы спрятались от сильного дождя и артиллерийского обстрела, состоялся наш первый разговор. Собственно, говорил только я, а он иногда отвечал «да» или «нет». Он был явно смущен тем вниманием, которое ему оказал представитель печати.
В боях на Курской дуге Сорокин получил орден Красного Знамени. Позднее, при форсировании Днепра, он одним из первых переправился на правый берег — за это ему присвоили звание Героя Советского Союза. Вскоре он стал младшим лейтенантом. И так как у него проявились недюжинные способности командира, то его быстро продвигали по службе, и к концу войны Алексей стал майором и командиром дивизиона тяжелых танков.
На фронте мы встречались часто. Почти после каждого большого боя я помещал о нем во фронтовой газете статьи. О нем писали и в московских газетах. Но слава не испортила его. Он оставался хорошим товарищем и, казалось, от боя к бою становился неуязвимей. Такое счастье было у этого человека. Смерть обходила его стороной.
После войны мы долго не виделись. Я знал, что он уже учится в военной академии, но, занятый делами разъездного корреспондента, никак не мог выбрать время, чтобы с ним встретиться.
И вдруг недавно, когда я оформлял документы в Фергану на строительство нового канала, редактор отложил в сторону командировочное предписание и сказал:
— У вас будет дело в Москве. Через несколько дней мы даем полосу «Бойцы вспоминают минувшие дни». Вы, наверное, знаете о судьбе своих фронтовых товарищей?
— Знаю, — ответил я, сразу же подумав об Алексее Сорокине.
— Нужно будет, чтобы кто-нибудь из них вспомнил свой самый значительный боевой эпизод.
В двух словах я рассказал о Сорокине редактору и получил задание встретиться с ним и написать очерк. Я разыскал телефон военной академии и через полчаса путем сложных переговоров с различными дежурными наконец попал в общежитие, а еще через несколько минут услышал его низкий, несколько запинающийся — последствие контузии — голос.
— На проводе военный корреспондент фронтовой газеты капитан Гусев, — крикнул я в трубку. — Как ваши боевые успехи, товарищ майор Сорокин?
В телефоне возникла секундная пауза, словно Сорокин собирался с мыслями и припоминал меня, а затем я услышал его радостный возглас:
— Гусев! Я тебя недавно вспоминал! Хорошо, что позвонил. А ты как живешь, старый боевой конь?!
Я не стал ему рассказывать о себе по телефону, и мы договорились увидеться вечером в сквере у Большого театра.
— Как влюбленные, — пошутил он.
— После долгой разлуки, — ответил я.
При встрече мы пожали руки друг другу так, словно и не было трехлетнего перерыва.
— Вот и встретились, товарищ корреспондент, — сказал он, и на его широкоскулом загорелом лице вдруг появилась та смущенная улыбка, с которой он встречал меня на фронте. За этой улыбкой тогда стояло: «Опять ты пришел по мою душу. Опять рассказывай тебе боевые эпизоды». И хотя встреча наша произошла в центре Москвы в субботний вечер, среди отдыхающих, которые толпились у входа в Большой театр, не желая раньше времени идти в жаркий зал, и сидели на скамеечках сквера, читая и разговаривая друг с другом, и ничто уже не напоминало о давно отошедшей войне, он, как мне показалось, немного удивился, когда увидел меня в пиджаке.