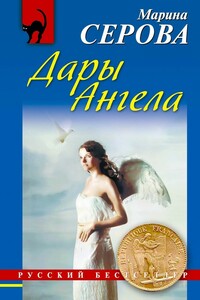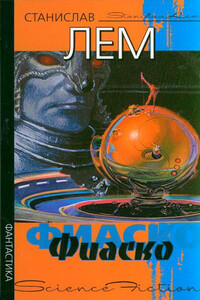Посвящается Б. М.
Снова снедает нас жажда исканий, и мы выполняем начальное условие: самоограничение, без которого мы ничего не можем, поскольку являемся всем. «Все» и «ничто» здесь, разумеется, одно и то же, ибо тот, и только тот, кто является всем, ничего не может. В совершенстве — а это непременный наш атрибут, если нам не захочется, как теперь, временно от него отказаться, — нет ни стремлений (ведь оно-то и есть конечная цель), ни поисков (ведь совершенство есть всеотыскание), ни мыслей (коль скоро все помышлено сразу). Способностью — которой мы не раз уже пользовались, — ограничивать нашу безмерность мы обязаны нашему всемогуществу. Всемогущество проявляется лишь как отказ, отречение от чего-то, поскольку связано с выбором; даже если бы мы воплотили мириады замыслов разом, даже если бы мы повелели: «Да будет все!», и тем самым повторили себя (что, впрочем, мы не раз уже делали), — это ничего не изменит: никакое увеличение не способно нас увеличить, прирастание мощи не сделает нас сильнее. Бесконечность, сложенная с бесконечностью, даст в итоге лишь бесконечность.
Вот доказательство — математически точное — того, что разрастанием мы ничего не достигнем. Может ли то, что не имеет границ, иметь их еще меньше? Всемогущество — стать всемогущественнее? Остается одно: уменьшать себя, редуцировать; только так, исходя из ущербности, мы можем отдаться исканиям, подверженным неустанному риску; западни подстерегающих повсюду противоречий подчас милее застывшего совершенства, и мы вверяемся им, а не ему.
Мы отрекаемся от полноты, дабы испытать нечто новое, коль скоро, будучи полнотою всего, мы все испытываем, кроме ощущения неизвестности. Мы пускаемся в путь, хотя наша память запечатлела несчетные тропы подобных странствий; не первый раз мы посещаем ее владенья, и каждым таким вторжением только запутываем лабиринты бездны, самой собою заполненной, саму себя возносящей, бездны, имя которой — мы; а всемогущество и всеведенье на этом пути сомнительными оказывались союзниками.
Некогда мы пожелали отыскать наше начало. Исходя, как всегда, из состояния совершенной полноты, мы понимали, что никакого начала не было, ведь начало означает вхожденье во время, подобно тому как граница — вхожденье в пространство; мы же способны творить и то и другое, будучи им неподвластны. И все-таки, неудовлетворенные вечностью, мы погружались в глубины памяти, пока не отыскали начало по мерке нашей безмерности. Начало было, ясное и бесспорное, оно появилось как ответ на вопрос — но откуда? Конечно, его породила сама постановка вопроса, оно возникло из нашего переизбытка, всемогущество наше, чересчур уж охотно, сотворило его! Было ли истинным это начало? Что за вопрос, обращенный ко всемогуществу…
Однако не сотворить хотели мы истину, но отыскать. Вот и противоречие. И снова мы приступили к исследованиям, на этот раз сверхконечным, спрашивая себя, что же такое мы сами? Творящее бытие; всемогущая мысль, которая не развеивается лишь потому, что пребывает вне времени; все, что только может существовать. Да, конечно, речь здесь о нас, все это наши, и только наши приметы; откуда же неудовлетворенность ответом? Где мы? Повсюду. Что нам делать с этой повсюдностью? Возможно ли нечто такое, что не являлось бы нами? Ну конечно; мы сами несчетное множество раз творили это «нечто». Однако не в своих творениях хотим мы искать ответа, и не в самих себе. Так где же, если мы являемся всем — вне всего? Бытием — вне бытия? Но, собственно, что существует вне Бытия? He-Бытие. Это «не» можно развернуть в громадность, ведь математика позволяет понять небытие как возможность антибытия. Довольно занятно. Что, если антибытие существует, не будучи нами, и есть нечто меньшее, чем небытие? Это означало бы сверхконечное множество, в котором поместится сколько угодно бесконечностей. Возможно ли это? Да… если мы того захотим. Что за итог!
И так чего ни коснись. На всякий вопрос возникает ответ, подсказанный потихоньку всеведением либо созданный всемогуществом, — и с тем и с другим заботы. Всемогущество не дает нам навечно застыть во всеведении, в его слепящем оцепенении, но оно и коварно. Ибо как все на самом деле? Так, как мы захотим. Но легкость творения без границ и усилий — фатальна. Мы можем нашу историю изменить моментально, иметь несчетные, какие угодно версии прошлого, вовсе их не иметь, иметь и вместе с тем не иметь, — неужели и это возможно? Ну да, иначе нет всемогущества… Однако, множа такие свершения, мы оказываемся владыкой побратавшихся противоречий, повелителем всяческих возможностей и, стало быть, всяческого абсурда. Что же мы видим? Всемогущество, отец парадоксов, разверзается бездной, в которой что угодно согласуется с чем угодно, а всеведенье усугубляет неволю ассоциаций, превращая ее просто в эхо, идеально бессмысленное.
Что же такое мудрость? Ограничение всеведения и всемогущества. В чем она проявляется? В зарождении упорядоченности. Наивностью было бы думать, будто порядок творится из небытия. О нет! Совершенно напротив — мы исходим из полноты, воплощенной в нашем царстве абсолютно безграничных свобод; отсутствие всякой необходимости (а значит, бесконечная произвольность и многообразие) — вот где берет начало наше творящее шествие. Отменяя свободы, мы получаем необходимости, и чем больше мы устраняем первых, тем больше возникает вторых. Так, на пути к абсолютному отрицанию, все ближе подступая к небытию, мы урезаем свободный хаос; из него-то, одна за другой, возникают упорядоченности, все более строгие, все более точные, пленницы законов, рабыни регулярности, и по мере установления запретов, исключений, ограничений все более безусловных, там, на самом пороге небытия, у самого нуля, зарождается квинтэссенция упорядоченности — Вещь.