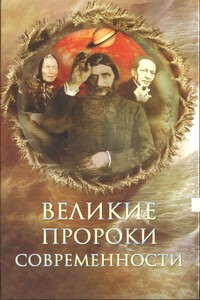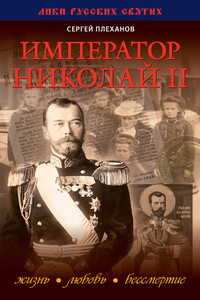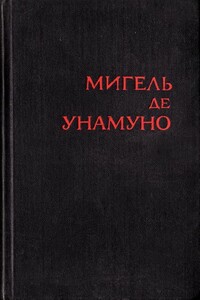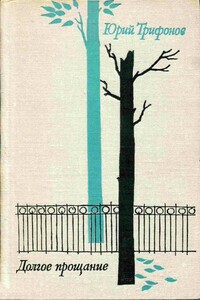ЮРИЙ ТРИФОНОВ
Записки соседа
Воспоминания
I
Дело не в том, что в течение нескольких лет мы были соседями по даче на Красной Пахре и наши участки разделял слабоокрашенный деревянный заборчик, возле которого мы часто стояли разговаривая. Дело в том, что мы оказались соседями по времени, по тому развеселому, разнесчастному, в котором досталось жить. А время всех ставит рядом: больших, маленьких, посредственных, ничтожных, всех, всех, всех.
Так вот: зима пятидесятого года. Сейчас ту зиму ощущаю совсем иначе, чем ощущал тогда. Если уж говорить о времени, то оно похоже на нас. Я был молод, крепок, подымал двухпудовые гири, и мне казалось, что так же молодо, крепко и способно поднимать небывалые тяжести время. Это был, конечно, верхний слой моего мироощущения, под которым находился другой слой - там тлело все горькое, что пришлось испытать за последние тринадцать лет и что как будто не оставляло надежд, - но под этим горьким находился еще один слой, еще более задавленный и скрытый, который все же грел меня странным и почти необъяснимым теплом. Год назад, в сорок девятом, я окончил Литературный институт, никуда работать не устроился, сидел дома и писал книгу. Зимой я эту книгу закончил. Куда нести? У меня были некоторые отношения с "Октябрем", напоминавшие вялый, тягучий и бесплодный роман временами я посещал кружок молодых писателей при этом журнале, давно уже потеряв надежду пробиться на его страницы. Все рассказы, что я приносил и отдавал благожелательной, мало что понимавшей старушке Ольге Михайловне Румянцевой, прочно застревали в ее столе. Впрочем, рассказы были плохие. Ну, а те, что печатал в своем журнале Панферов? Их хвалили в газетах, они получали премии, считались образцами современной литературы, но мне казалось, что они еще хуже моих рассказов. Я не мог прочесть из них ни страницы. На мой взгляд, это было совсем не то, к чему надо стремиться, да и попросту не литература. Причин такой решительности моих литературных оценок было две: действительно худое качество хвалимых романов и мое собственное наглое зазнайство, обыкновенное для начинающих.
Итак, "Октябрь" отпал (я показывал несколько глав из книги Ольге Михайловне, но, кроме обычных туманных и благожелательных обещаний, не услышал ничего), со "Знаменем" не было связей, оставался "Новый мир". Членом редколлегии "Нового мира" был Федин, руководитель моего семинара в Литинституте. Главным редактором недавно назначили Твардовского. Я упаковал пухлое, двадцатилистное произведение (не знал, как называть его - романом, повестью, не знал и названия) в две старые канцелярские папки довоенного образца, которые, наверное, использовал отец еще во времена Нефтесиндиката, и поехал в Лаврушинский переулок. Федин постоянно жил на даче в Переделкине, в Москве бывал редко, но мне удалось с ним созвониться и он назначил день. На семинаре в Литинституте я читал раза два главы из повести, и Федину они как будто нравились. Но одно дело - главы, а другое - пятьсот страниц на машинке. Читать два месяца! Я приготовился терпеливо ждать, лишь бы Федин согласился взять мои папки.
Федин, однако, поступил иначе, немало меня изумив.
- Я сейчас позвоню Твардовскому и скажу ему про вашу рукопись, - сказал он. - Здесь все примерно в том стиле, что и те две главы?
- Да, - сказал я. - Примерно в том.
- Вот и хорошо. Сейчас позвоним. Он как раз спрашивал меня, нет ли какой интересной прозы... - Федин уже набирал номер, продолжая вполголоса меня все более изумлять: - Он только что назначен... Полон энергии, ищет авторов... Александр Трифонович? Добрый день, это Федин. Вчера вы мне звонили, просили посылать молодых авторов, и вот, пожалуйста, выполняю вашу просьбу. Повесть о студентах. Автор - мой ученик по Литературному институту... Читается с интересом...
Федин говорил что-то хвалебное по моему адресу, я плохо слушал, подавленный внезапным недоумением. С одной стороны - тут было благодеяние, с другой - нечто обидное. Что ж, ему вовсе нелюбопытно прочитать мою рукопись? И если когда-то понравились те две главы, то неужели не хочется узнать, что же там случилось дальше! Я считался старейшим учеником Федина. Еще с первого, заочного курса, когда работал на авиазаводе. Федин подробно разбирал мои начальные, беспомощные сочинения, иногда защищал меня от ретивой критики (а мы топтали друг друга на семинарах нещадно!), иногда сам твердо и холодновато ставил меня на место. Но всегда я чувствовал какой-то интерес. Теперь же, когда я принес гигантский плод полуторагодичного, каторжного, графоманского труда - бывали дни, особенно минувшей осенью, в сентябре, на даче в Серебряном, где я жил один, когда выходило по пятнадцати страниц в сутки! - мой учитель даже не развязал тесемок на старых, из желтого глянцевитого картона папках.
Федин как будто почувствовал мои мысли.
- Дорогой Трифонов, - сказал он, - ваше произведение я прочитаю, когда оно будет напечатано в журнале. Не возражаете? Дело в том, что я занят сверх меры...
Я не возражал. Был благодарен: такая оперативность! В тот же день курьер из "Нового мира" должен был забрать желтые папки и привезти Твардовскому. Пока все шло замечательно. И все же что-то меня скребло. "Он поспешил от меня отделаться!" Прошло много лет, и теперь я знаю, что такое толстые папки, которые приносят начинающие писатели. Они напоминают маленькие, хорошо упакованные коробки с динамитом: что-нибудь непременно будет взорвано Ваша работа, ваше время, ваше спокойствие или ваши отношения с людьми. В этих папках слишком много заложено. Поэтому чем скорее от них отделаешься, тем лучше. Недавно ко мне пришел молодой человек, несомненно, талантливый, рассказы которого я читал, и принес новую повесть. Он написал много, но почти ничего не смог опубликовать. Знакомя его с бывшим у меня гостем, я сказал: начинающий писатель такой-то. Молодой человек дернулся, в его лице мелькнуло что-то, и он сказал, резко отчеканивая каждое слово: "Я не начинающий писатель!" Повесть его лежит на моем столе. И я боюсь к ней притронуться, как к пакету с динамитом.