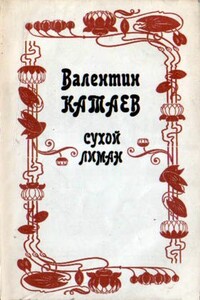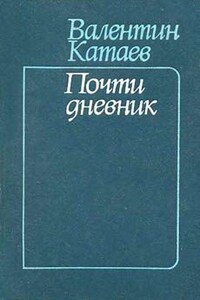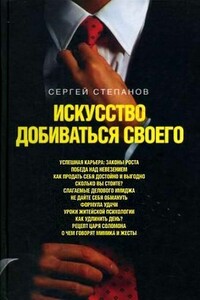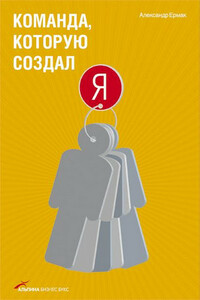Мы вышли из кинотеатра. Прямо на Тверскую. Туда, где обитают быстрые машины. Они могут домчать нас, куда наши души и тела пожелают.
Я поднял руку, голосуя. А сам не отрывал взгляда от Мерлин. Свет фонаря освещал ее в упор как прожектор. Ветер играл роскошными светлыми волосами, распахивал шубку, пробегал по рвущимся из-под белого платья груди и бедрам. Сердце мое билось пламенным дизелем. Я сам хотел быть этим наглым теплым весенним ветром.
Мерлин улыбнулась:
— Мы едем к тебе?
Я как-то и не подумал о таком варианте:
— Ко мне? Может, лучше в твою гостиницу?
Она тут же безоговорочно прижалась:
— Нет, там репортеры, поклонники. В гостинице скучно. Хочу к тебе, мой милый русский.
Я обнял:
— Ты хочешь ко мне…
Но у меня, у меня… У меня всего лишь мизерная квартира — семь на восемь шагов. И дело даже не в размере, а в том, что в моем пристанище никто не убирался с тех пор, как ушла Зойка. Там жуткая пылища. Там раскиданы грязные носки, рубашки, штаны и еще хрен знает что. Телевизор заплеван виноградными косточками. А кухня завалена заплесневевшими тарелками и сковородками, яичной скорлупой, сигаретными бычками в томате, оставшемся в консервных банках. А в ванной мутные брызги и потеки сверху донизу…
Привести туда Мерлин?
— Я не могу… Это ужасно… Ты не представляешь, что это такое — берлога одинокого мужчины…
Но Мерлин закусила губку:
— Но я хочу, хочу «рашн экзотик». Зачем я летела сюда? Я хочу делать это в русской берлоге, с русским медведем…
Крыть было нечем:
— Хорошо. «Лет ит би…» Пусть будет так…
И мы поцеловались. Я опустил руку. На грудь Мерлин. И тут же рядом взвизгнула тормозами машина:
— Куда вас?
— В Кунцево.
Авто рвануло с места. А я рванул что-то на Мерлин, прорываясь вглубь к теплому, к мягкому и к упругому.
За минуты, которые мы мчались по затемненной Москве, я истискал ее сверху донизу, вдоль и поперек. Да и Мерлин не отставала — засунула мне руку в ширинку. Я аж застонал сквозь наши стиснутые губы. А шофер тут же тихо ржал.
Снизу пошло такое тепло, что я испугался опередить события, и отстранил ее:
— Подожди, Мерлин, не торопись.
Она сделала изумленные глазки:
— Но я хочу, хочу тебя.
— Здесь? — вздрогнул я.
Мерлин подтвердила:
— Да, здесь. Сначала здесь…
— Полсотни баксов, — осклабился таксист, — не вопрос.
За Мерлин не жалко было и полсотни. Но заниматься любимым делом у этого типа на глазах в зеркале заднего вида?
— Да, — упрямилась в моих штанах Мерлин.
Я обречено вздохнул, но, вглядевшись в темноту улицы, увидел знакомый забор:
— Нет. Мы уже подъезжаем, Мерлин.
Я внес ее, благоухающую «Шанелью», в наш заплеванный и зассанный лифт. Чтобы она не промочила свое белое платье в зловонной слякоти, поднял повыше. На уровень трех букв, искусно выгравированных местным художником.
Ее локоны щекотали мою шею. Лифт тронулся. Быстрей, быстрей, а то ей приспичит прямо здесь, в зловонной клетке.
Мы вломились в квартиру. Я опустил Мерлин на пол. Она, видимо обезумевшая от подъездных запахов, тут же ринулась к окну. Распахнула его. Наглый теплый весенний ветер рванул к ней под платье. Белое одеяние вздулось, раскрылось парашютом, обнажив ее ножки и трусики.
Я не дал платью опуститься. Без всяких причудливых прелюдий схватил и бросил Мерлин в свою несвежую постель.
— Да, — сказала она без акцента, закатывая глаза и выгибая спину.
— «Йес», — почему-то прошептал я, стягивая с нее последнее препятствие.
Вонзился в Мерлин турецким ятаганом. Всхлипнул пенсионер-диванчик. И тут же ее томное:
— Да…
И мое общеобразовательное:
— «Йес…»
— Да…
— «Йес…»
— Да…
— «Йес…»
— Да…
— «Йес…»
Я чувствую, как внизу, где-то глубоко внутри живота, начинает теплеть. Там формируется горячий шар. С каждой секундой он становится все больше и больше. Он сладко жжет и давит. И давит, давит, двигается.
— Да…
— «Йес…»
— Да…
— «Йес…»
— Да…
Еще немного и огненный шар вырвется на волю вулканом, фейерверком, фонтаном кайфа.
— Ноу… Но пасаран… Нет, нет… Только не это… — кричу я, отстыковываясь от Мерлин.
Вздрагиваю и просыпаюсь.
Я лежу поперек измятой постели. Один. Никакой Мерлин под рукой нет и в помине. Она мне всего лишь приснилась. Но чуть не кончил я совсем по-настоящему:
— Фу, успел…
Еще немного такого сна, и проснулся бы я частично мокрым. Тот кайфовый шар выплеснулся бы из меня наружу и украсил простынь характерным разводом. И лежать бы мне сейчас в сырости, сожалеть о недосягаемой Мерлин.
Но нет, я успел проснутся. И вот тянусь за сигаретой. И чиркаю зажигалкой. Пускаю в потолок струю. Дыма. Дела… Что-то подзатянулось мое односпальное существование. Конечно, были перерывы и раньше. Совсем короткие. И длинные. И один очень длинный — армия. Тогда после школы с институтом не заладилось. И пришлось одеть форму. И страдать воздержанием, поллюциями. И не смеяться над армейским анекдотом: «Может ли женщина зачать без полового контакта? Может, если переспит на простыни солдата».
Очень точный анекдот. Простыни нам не успевали стирать. Молодой организм требовал своего. И обычно под утро по белью расплывались разводы. После красивого сна становилось неприятно сыро. Проснешься и, ощупывая себя, материшься. А на соседней койке такие же проблемы у «коллеги»: