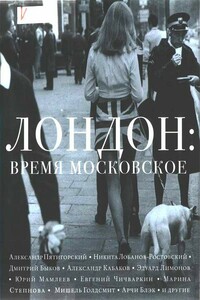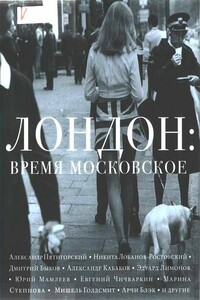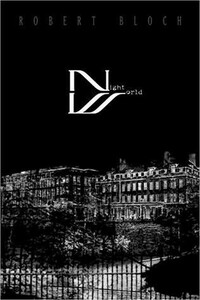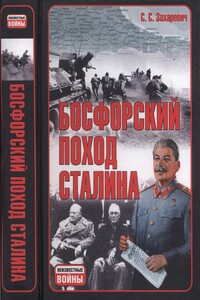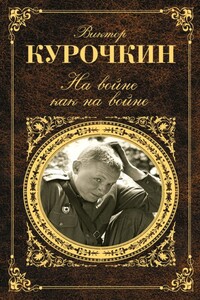Поселок Узор вытянулся вдоль шоссе от моста через речку Каменку до конторы «Заготсырье». Каменка потому так и называется, что в реке больше камней, чем воды, а летом ее куры вброд переходят. На обрывистом берегу в березовой рощице — больница. За конторой «Заготсырье» — пастбище, поросшее мелким ольшаником, выбитая копытами животных земля напоминает свежее пожарище. А вокруг топкое непроходимое болото.
Поселок пересекает железная дорога. Местный старожил, старик еще бодрый, но глухой, как пень, рассказывал мне так: «Утонул бы Узор в болотах, кабы не могутная воля барчука Парнова. Закупал он во всей округе скот и торговал мясом, а в Узоре свою бойню держал. Страшный богач был. Подпоил начальство, и сделали здесь станцию. Не быть бы тут Узору: его место в городищах, верст за пять отселева. Потому как там место лобное, весной и осенью сухое».
Раньше поселок Узор являлся районным центром. Это было в те времена, когда Дом колхозника битком заселяли уполномоченные и заготовители всевозможного рода. Здесь годами проживали уполминзаги и по мясу, и по зерну, и по молоку, по овощам, по картофелю, по сену, лесу — всех теперь не перечтешь; но хорошо помню, что одно время там околачивался уполномоченный по ликвидации яловости скота. Но и это не все. Периодически район бурным потоком наполняли представители областных организаций. Это были «кампанейские» ребята. Потому что появлялись они на период посевной и уборочной кампаний… И тогда не хватало коек в «гостинице». Они ютились где попало. У меня в суде, на холодном кожаном диванчике, частенько ночевал третий секретарь обкома партии Мареев — умный, добрый и общительный человек, который не гнушался ни откровенными разговорами, ни скромным гостеприимством.
Говорят, когда-то Узор насчитывал до полутысячи домов. После войны и сотни не осталось бревенчатых домиков с жидкими палисадниками под окнами; стоят еще два десятка кирпичных коробок с темными мрачными глазницами вместо окон.
Здание райисполкома — самое солидное и богатое в поселке: двухэтажное, с балконом и колоннами у входа. В насмешку над местной природой архитектор залепил карнизы тучными кистями винограда. Дом райкома партии тоже каменный и двухэтажный. Но здесь архитектор показал свое полное пренебрежение к излишествам и красотам. Поставил огромный серый ящик с тремя десятками окон, а под карнизами вырубил две круглые слуховые дыры и от них во все стороны пустил стрелы.
Первое, что я увидел из вагона поезда, сразу за переездом — триумфальную арку, увитую рыжей хвоей. В сильный ветер арка качалась и угрожающе скрипела. Полгода обходил ее районный прокурор. Потом позвонил начальнику милиции. Начальник милиции пожарному инспектору. После этого я видел, как арку два пожарника около столовой раскатили на дрова.
Моя резиденция — приземистое, неуютное, как сарай, здание с вывеской «Народный суд» — оказалась по соседству с конторой «Заготсырье», на самой окраине поселка. Зимой его нередко чуть ли не до крыши заносило снегом. Моя уборщица и сторож Манюня широкой деревянной лопатой весь день разгребала тропинку от крыльца до шоссейки; иногда ей помогали истцы с ответчиками, и мне всегда казалось — не без тайного умысла.
Жил я у Василисы Тимофеевны Косых. Весь свой дом с комнатками и комнатушками она сдавала внаем. Сама же ютилась на кухне. Однако квартиранты у нее долго не задерживались. Снимал я у нее узкую, темную, как печная труба, комнатушку с одним окном. До меня в ней жил агроном сельхозотдела. По уверениям хозяйки, «беспробудный пьяница, бабник, сожрал три связки луку и, не заплатив, съехал с фатеры».
Я знал агронома. Застенчивый человек, трезвенник, большой труженик и неудачник, он никак не мог оправдаться перед Косихой. Правда, лук он ел с какой-то непонятной жадностью и пропах им насквозь, как баранья котлета.
Меня хозяйка терпела и соседкам говорила: «Удобный квартирант — платит хорошо, обходительный, не путаник, а ведь совсем холостой, только табакур. Накурит, так накурит, хоть из дома беги». И все удивлялись. Удивлялся и я, но не долго. Зимой на каникулы с бухгалтерских курсов приехала ее дочь Симочка. Взглянул я на нее, и сомненье взяло: да дочь ли она Косихи? Так они не походили друг на друга. Мать напоминала почерневшую, но еще крепкую доску. Симочка была воплощением мягкости и круглости. На ее белом пухлом, с легким румянцем лице, словно огромные изюмины, торчали изумленные глаза.
Вечером она зашла ко мне как к старому знакомому. Развязность иных женщин, порою граничащая с наглым вызовом, меня теперь не удивляет. Я видывал и не то… Но в поведении Симочки все было так просто, непринужденно, доверчиво и красиво, что мне стало отрадно, словно я ее ждал, и ждал давно, с нетерпением и трепетом. Не помню, чем я тогда был занят — не то читал, не то писал, в общем, как-то разумно бездельничал. Симочка подвинула стул, села, положив на кромку стола упругие, как мячи, груди, и стала смотреть мне в лицо с пристальной серьезностью. Я тоже не мигая смотрел на нее как зачарованный. Ее розовое, теплое лицо было очень серьезно, Симочка старалась серьезничать. И это ей удавалось, но с большим трудом. Нижняя губка у нее дрожала, а в зрачках этих странных глаз то вспыхивали, то гасли радужные искры. Подобную световую игру глаз я наблюдал в темноте у кошек. Так мы смотрели друг на друга минуту, две, а мне показалось — целую, вечность.