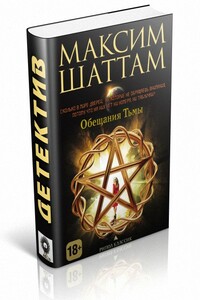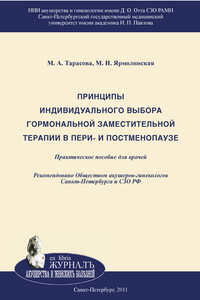Юрий Домбровский
Записки мелкого хулигана
В Секретариат Союза писателей
от члена Союза Ю. О. Домбровского
(членский билет 0275)
Москва, К-92, Б. Сухаревский, д. 15, кв. 30.
Б-3-40-47
Докладная записка
Начну с самого конца: 10 мая меня вновь повесткой вызвали в тот самый нарсуд на улице Чехова, где за месяц до этого я получил десять суток ареста за мелкое хулиганство. Перед тем, как пойти туда, я зашел в Союз и попросил, чтобы мне дали юрисконсульта. Юрисконсульта мне дали, она была со мной, была в суде, была во время разговора с нарсудьей Кочетовой, была, когда я наконец-то первый раз (тогда, перед судом и осуждением, мне этой возможности не дали) знакомился со своим делом.
Разговор с нарсудьей Кочетовой оказался очень странным.
Судья Кочетова (читая больничную справку о моем состоянии). И вы, такой больной человек, полезли в эту историю. Как же вы могли?
Я. Гражданин народный судья, все это я заработал у вас и из-за вас. Все четыре болезни. А насчет дела разрешите мне в конце концов разъяснить, что же было...
Кочетова (перебивает). Я ничего не хочу слушать. Решение уже вынесено.
Я. А если решение это неправильное, неправомерное, не отвечающее существу дела, если оно какое хотите, но только не справедливое, тогда что?.. Я спас женщину от ножа! Ее резали, ей рвали рот, понимаете вы это?!
Кочетова. Решение уже вынесено.
Я. У нее был разорван рот, понимаете? Пальцем! Я видел, как это делается, и на Колыме, и в Тайшете, в карцерах. А на губе у нее был порез полоснули ножом.
Кочетова. Приговор вынесен.
Я. Комната была залита кровью, и в крови валялся финский нож.
Кочетова (радостно - наконец-то она поймала меня на противоречии). То вы говорили, что брали ее в домработницы, то, что...
Я. А разве это одно другому мешает? Если женщину один берет в домработницы, то другой ее может резать? Я заявил об этом милиционеру, я сказал - пойдите вниз, там засела шайка картежников, там вся комната в крови, там...
Кочетова (кончает разговор). Приговор уже вынесен. Я ничего сейчас не могу сделать. (Я жму плечами - что говорить дальше?) Но так как вы больны, то я заменю арест штрафом. Это единственное, что в моих возможностях. Вы согласны?
После этого мы знакомимся с делом. Моему адвокату его дают на просмотр. Сидим рядом и читаем. Оно уже пухлое, законченное, обросшее постановлениями, запросами, ответами, аккуратно подшитое. Начинаем читать с конца, с того, что мы в некий период именовали "доносы", о чем мне еще придется много говорить. Аккуратнейший чертежный почерк, буковка к буковке. Писал ответственный съемщик. Внизу тем же полупечатным почерком выведены фамилии жильцов. Он - она, он - она, он - она; пропуск: вот здесь надо расписываться. О, как я знаю эти старательно выведенные, стандартные буквы, этот стиль - патриотический, велеречивый, подлый и неграмотный; сколько я видел таких бумаг в своих делах, в делах моих товарищей, они откуда-то выплывали в период реабилитации. Творчество этого человека я знаю особенно хорошо. Еще бы! Это его четвертый донос, который я читаю. И в тех были те же тщательно вырисованные фамилии с местом для росчерка, те же туманные, но очень страшные формулы: "Разлагает...", "нарушает моральный кодекс...", "антиморально...", "антиобщественно".
Все это я, повторяю, читаю уже четвертый раз.
Первый раз, когда писалось про первого мужа жилицы справа.
Второй - когда он писал о муже жилицы слева.
Третий раз - когда просили дать возможность сыну жилицы справа после отбытия наказания прописаться по прежнему месту жительства. Это было доброе дело. Но есть люди, которые, как бы им этого ни хотелось, добра сделать не могут. Не дано оно им. Мне кажется, что и автор всех этих трех бумаг такой же. Общий смысл этого заявления был такой: мы, жильцы квартиры 30, просим помиловать Юрия Касаткина; отец Юрия - пьяница и распутник, он бросил жену, заведовал столовой и пьянствовал сутками. На нем уже висит несколько партийных взысканий (на Касаткине ничего не висит, он партиец почти с сорокалетним стажем). Так что же ждать хорошего от сына подобного разложенца? Яблочко от яблони ведь недалеко падает. Помилуйте сына!
Но этот потешный документ был хотя бы лишен того, чем два предыдущих и четвертый (заявление на меня) оканчивались, - "просим изолировать".
В этом слове "изолировать" и был смысл всех трех документов. Еще тогда, на заре наших отношений, читая первый из них, я подумал: да сколько же подобных просьб было написано и подано этой рукой в предыдущие года: года 37-й и 39-й? Года 40-й и 53-й? И какая часть из них была уважена - двадцать пять процентов, пятьдесят, сто? Конечно, тогда действовали в одиночку в темноте, на соседа не собирались подписи, не выводились чертежным почерком фамилии, не оставлялись места для росчерка. Но и те три документа не состоялись просто потому, что тот первый, к которому "автор" обратился за подписью, достаточно ясно высказал ему это.
Но все это, так сказать, заметки на полях, вопрос, на который не может быть ответа. Он просто невольно приходит в голову, когда читаешь вот такую бумагу. И, конечно, она была заготовлена впрок давно. Но дана жильцам только после моего ареста: он - она; он - она.