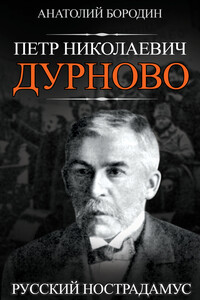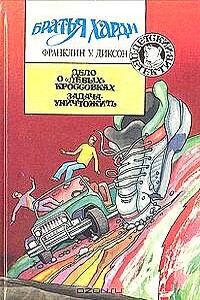«Век нынешний и век минувший…»
«Мать объяснила мне, что государыня Екатерина Алексеевна была умная и добрая, царствовала долго, старалась, чтобы всем было хорошо жить, чтобы все учились, что она умела выбирать хороших людей, храбрых генералов, и что в ее царствование соседи нас не обижали, и что наши солдаты при ней побеждали всех и прославились» — так, вспоминая 1796 год, писал Аксаков в «Детских годах Багрова-внука». А ведь впереди еще Итальянский и Швейцарский походы, Карамзин, Жуковский и Пушкин, «вечной памяти» 12-й год и взятие Парижа. Но золотой век был уже позади.
Вероятнее всего, генерал-майор в отставке Л. Н. Энгельгардт принадлежал к тем самым московским старичкам «времен очаковских и покоренья Крыма», над которыми мы со школьной скамьи привыкли иронизировать вместе с Чацким. Более того, для Энгельгардта это была, пожалуй, осознанная позиция; для него XVIII век был гораздо живее, чем все, что он видел вокруг, в веке XIX; и уж конечно, Екатерина II для него была вовсе не «предметом исторического изучения». Родившийся в 1766 г., Л. Н. Энгельгардт вступил в новый век еще совсем не старым человеком, но уход в отставку в 1799 г. вполне ясно показывает его полное неприятие наступающей эпохи.
В значительной мере этим вызвано и появление «Записок». Их цель — сохранить для потомства сведения «касательно нравов того века, людей, образа жизни, обычаев, политических и военных происшествий и описание знаменитых лиц», — он чувствует в 1826 г. (когда была начата работа над «Записками»), что пришло другое время. Видимо, по мере осознания этого факта Энгельгардт все более и более склоняется к написанию «истории», так прямо и называя свое произведение в VII главе. И из семи глав этой «истории» александровскому царствованию посвящена одна, павловскому — тоже одна. А пять — екатерининскому.
Апогей царствования государыни-матушки в изображении Энгельгардта приходится на вторую турецкую войну, связанную для него с глубоко личными переживаниями: то была его первая кампания, на которую возлагал он честолюбивые надежды, воюя под началом с детства восхищавшего его Румянцева; тогда сверкал во всем великолепии своей «полудержавной» власти «странный» Потемкин (отношение Энгельгардта к нему всегда остается противоречивым — зачастую отзываясь о нем весьма критически, он помнит, что приходится родственником великому человеку, и навсегда сохраняет антипатию к пытавшейся свалить фаворита партии); в ту войну были Измаил и Очаков, Рымник и Фокшаны.
Именно причастность к этим событиям придает в глазах Энгельгардта значимость и его особе, позволяет говорить о себе, своих личных впечатлениях: «Время было прекрасное. Следуя с полком в Ботушаны, 24-го, при захождении солнца, сидел я на дворе в одном мундире, распахнувши камзол». Но именно здесь от изложения анекдотов, «рассказов о том, что видел», Энгельгардт окончательно переходит к написанию истории, хроники, охватывающей, пусть кратко, все важные события российской жизни. Сохранившиеся фрагменты черновика свидетельствуют, что именно в этом направлении шла работа над текстом: из шестой главы исключаются как раз наиболее личностные моменты: детские воспоминания, последняя встреча с Румянцевым. Первоначально глава должна была начинаться с рассказа автора о том, как еще в мальчишеских играх он всегда брал на себя роль Румянцева; что же должен был чувствовать он теперь, когда собирался в поход под началом легендарного полководца! В окончательном варианте она начинается с бесстрастной фразы: «Булгакову, нашему министру при Оттоманской Порте, приказано было подать ноту…» Стремление охватить в своем рассказе все приводит в конце концов к тому, что при описании походов 1812–1814 гг. повествование превращается в перечень дат и имен, подробный настолько, что сам автор чувствует это и решает ограничить себя только российской историей; из этой же тенденции рождаются и даваемые Энгельгардтом в примечаниях обзоры истории в России политического сыска (причем автор начинает аж со времен Ивана Грозного) и «тайных обществ».
Описание екатерининского царствования у Энгельгардта довольно неоднородно. С одной стороны, характеризуя события, свидетелем которых сам он не являлся, автор обращается к общедоступным источникам, например к реляциям. Особенно хорошо это видно на примере суворовского донесения о победе при Фокшанах. В изложении Энгельгардта оно звучит так: «Речка Путна от дождей широка. Турок тысяч пять-шесть спорили, мы ее перешли, при Фокшанах разбили неприятеля; на возвратном пути засели в монастыре пятьдесят турок с байрактаром; я ими учтивствовал принцу Кобургскому, который послал команду с пушками, и они сдались». Первая часть этого текста представляет собой довольно точное воспроизведение письма Суворова Репнину от 21 июля 1789 г.: «Путна от дождей глубока. Тысячи две-три турков нам ее спорили часа три». Источником последующего является официальная реляция, опубликованная в газетах: «По овладении Фокшанами остаток разбитых турков искал спасения в монастыре Св. Иоанна, в полуторе верст лежащем, где и заперся; но и тут посланная от принца Саксен-Кобургского команда с пушками, несмотря на отчаянную оборону, принудила оставшихся от истребления Ату и 52 человека сдаться военнопленными». Характерно, что в этот отрывок автором привнесены стилистические особенности, которыми, по его мнению, должно обладать донесение Суворова. На примере Суворова вообще лучше всего видно, насколько мифологизированным является изображение XVIII века у Энгельгардта. Интересно, как общекультурные мифы соотносятся с авторским опытом: негативное личное отношение Энгельгардта к фельдмаршалу, обусловленное неудачно сложившимся личным общением с ним, и ставшее к 20-м годам XIX века общепринятым признание гениальности полководца сосуществуют, не конфликтуя, в сознании мемуариста; здесь мы видим очень яркий пример того, как влияет на описание разрыв между событием и временем его фиксации. Характерно, что у Энгельгардта мы находим все элементы суворовской легенды в том виде, как ее канонически оформил в своем «Снигире» еще Г. Р. Державин: «есть сухари», «спать на соломе», «скипетры давая, зваться рабом», «с горстью россиян все побеждать».