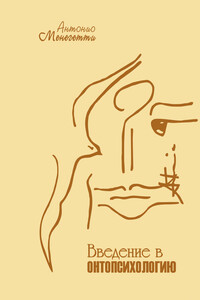Его отец занимал важную должность в киевском горисполкоме, носил костюм с широкими брюками и галстук в профсоюзную полоску. Его мама была еврейка и врач, привычное по тем временам сочетание. Они жили на улице Тургеневской, он мало, что помнит, только огромное чувство счастья, какого-то щенячьего восторга и бесконечной любви. Его все любили, и он любил всех, мамины руки с запахом мыла и хлорки, колючие папины щеки, солнечного зайчика на беленом потолке, скрип паркета в коридоре.
В тот день 1937-го года мама с утра уехала на суточное дежурство в больницу. С ним остался отец, собирался поработать с бумагами, весело щелкал блестящей пряжкой на кожаном брюхе портфеля.
А потом за отцом пришли.
Арест и обыск были короткими и стремительными, отгромыхали сапогами по паркету, вывернули шкаф и трюмо, распотрошили комод, словно вспороли ему живот, и кишки чулок и ползунков вывалились на пол.
И уехали, забрав с собой отца.
А его бросили, одного, в пустой квартире на Тургеневской.
Ему было тогда восемь месяцев.
Он кричал сутки, от страха, голода, от мокрых ползунков, от жажды и потому, что не умел сказать по-другому. Соседи слышали его крик, весь день и всю ночь, но зайти в комнату так никто и не решился.
На следующее утро его, осипшего и обессиленного, в загаженной кроватке, нашла бабушка, мамина мама.
Он хорошо помнит её руки, мягкие и сильные, крепкие и добрые, рыхлые и нежные, такие разные и такие родные.
Он помнит, как эти руки подняли его над улицей и понесли, и передали другим рукам, а потом другим и другим, и ещё.
Это было позже, в 1941-ом.
Ему исполнилось четыре года.
Они в толпе еврейских переселенцев под бодрые немецкие марши идут по Тургеневской, куда-то в сторону Бабьего Яра. Его бабушка, мамина мама, держит его за руку, а в другой рукой она прижимает к животу подушечку, украшенную шелковыми розами и голубями. В подушечке аккуратно и бережно зашиты деньги, всеми сбережениями их семьи. Они едут на переселение, как говорит бабушка, как ей сказали на днях, как писали в газетах и листовках, а на новом месте деньги наверняка пригодятся, на первое время. Вокруг идут люди, тоже с детьми, с мешками и чемоданами, плотной толпой.
— Сара! Сара! Ну, куда ты с ним, на новое место?! Ну, куда? — кричит от тротуара его другая бабушка, папина мама, после потери сына высохшая и будто заострившаяся со всех сторон. — Не надо, Сарочка! Я тебя умоляю! Ну, устроишься там, обживешься, и я тебе его немедленно привезу! Сара!
— Сара! Ну, подумай, ведь на новом месте! Самой тяжело! А с ним еще тяжелее! Сара!
И бабушка вдруг решается.
Она поднимает его над собой на своих крепких и добрых руках, и передает другим рукам, тоже крепким и тоже добрым, а те передают его другим рукам, и он плывет над улицей, над толпой евреев, идущих на переселение в сторону Бабьего Яра, и доплывает так до своей бабушки, папиной мамы, и ревет от неожиданного расставания и встречи.
А потом два года они прятались по подвалам.
И он всю жизнь так и будет говорить:
— Это моя мама, которая бабушка…
Он живет в Киеве, он ученый, профессор, преподаватель и прочее.
Он много ездит по миру.
И когда у него спрашивают про то, действительно ли в Киеве хунта и фашисты, он отвечает, что да, действительно видел в Киеве фашистов, лично сам, сначала в 37-м, а потом в 41-м, и вспоминает эту историю из своего детства.
Боевик или рассказ о том, кого не было
Дождаться десять дней, пока брага выстоится и можно будет выгнать из неё самогон, дядя Толик не умел. Он выпивал мутную глинистую брагу раньше, черпал металлической кружкой из бака, укутанного одеялами в углу комнаты, за диваном, у батареи. Утром черпал, иногда — в обед, и вечером обязательно, вечером из бака кружкой черпнуть, уж это святое дело.
Он жил беззаботным алкоголиком, тихо пропивал пенсию, и зарплату сторожа кооперативного гаражного хозяйства, и нажитое за шестьдесят лет барахло — чешский хрусталь, китайские вазы тонкого невесомого фарфора, немецкие столовые сервизы, турецкие ковры, «жигули» шестой модели бежевого цвета в экспортном варианте.
Откуда имущество трезвый дядя Толя молчал. Оттуда, где нас нет, не было и не будет.
Выпив, он становился разговорчивее.
Вазы он привез в 1975 году из Вьетнама. На фотографиях тех лет он в форме капитана, со значками химических войск на петлицах, маленький, щуплый, тонкий и улыбающийся. После первой кружки мутной браги дядя Толик на спор, без запинки, скороговоркой выговаривал «ортохлоробензилиден малононитрил» и заводил свой бесконечный рассказ о «тропе Хо Ше Мина». Ребенком я слушал его, боясь пропустить хоть слово, как он вдвоем с товарищем посреди джунглей перебирали простреленный движок ЗИЛа, как вьетнамцам были велики наши противогазы, как выкуривали бойцов Южного Вьетнама из домов в Дананге, как об этом нельзя говорить и нас всех за такие беседы однажды непременно расстреляют.
Ковры он привез в 1979 году откуда-то из Африки, то ли из Мозамбика, то ли из Анголы. Оттуда же он привез чеки, на которые через год купил свои «жигули». Про Африку дядя Толик рассказывал совсем мало, показывал единственную фотографию, он в гражданке в окружении угольных африканцев. Все улыбаются, африканцы больше, дядя Толик меньше.