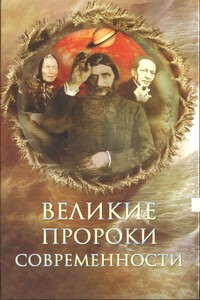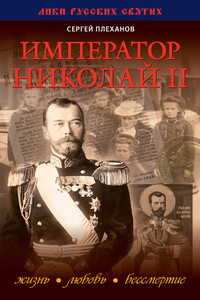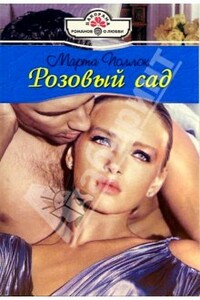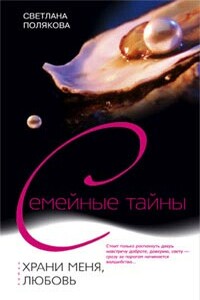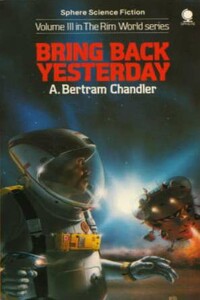Закон и «понятия»
автор Леонард Борисович Терновский
Летом 81-го года в Тольяттинском лагере УР-65/8 мой солагерник и сосед по бараку, совсем мальчишка на вид, спросил, — за что я угодил в лагерь? Я никогда не таил сущность своего дела и дал ему прочесть свой приговор. Помнится, он не высказал по отношению к тому, что я делал, ни осуждения, ни сочувствия. Но вот что он решительно не мог взять в толк. В приговоре было сказано: я выступал с протестами в связи с арестами своих друзей; заявлял об их невиновности; открыто оспаривал правомочность помещения в психбольницы тех людей, кого считал здоровыми. Что я распространял эту обличающую власти информацию, которая потом не раз передавалась вещающими по-русски зарубежными радиостанциями. Но, подтверждая все это, я не признавал себя виновным!
Как же так?! Мой сосед понял бы меня, если бы я пытался уйти в «несознанку». Но я не отрицал, что действительно распространял документы и заявления, выставляющие отечественную юстицию в самом неприглядном виде. Мои объяснения, что меня осудили за клевету, а в моих выступлениях не было ни слова неправды, не доходили до сознания моего собеседника. По его понятиям неважно, что пишется в законе. Общеизвестно: выступать с осуждением наших порядков, тем более — сообщать об этом иностранным корреспондентам — нельзя, за это всегда наказывают. Так как же, подтвердив, что я открыто обличал действия властей, можно было не признавать свою вину?!
Впрочем, какой спрос мог быть с моего молоденького соседа?! Разве служителям юстиции, следователям, прокурорам, судьям, не были свойственны те же подмена понятий и правовой нигилизм?! Тотчас после Октябрьского переворота 17-го года большевики провозгласили главенство «социалистического правосознания» и «революционной целесообразности». То есть поставили над законом — понятия. Это совсем не юридический термин. Это неписаный и порой довольно расплывчатый кодекс поведения некой социальной группы, часто приблатненной или даже уголовной. Трагично, что многие десятилетия произвола воспитали в подобном духе большинство советских юристов. Отправляя диссидентов в лагеря и «психушки», иные из них, быть может, даже не сознавали неправосудность своих приговоров. Они следовали давно укоренившейся традиции и не задумывались, как это соотносится с писаным законом.
Между тем, интеллигенция сделала свои выводы из разоблачения преступлений сталинщины на ХХ съезде КПСС. Она поняла, что произвол проистекает из неуважения и несоблюдения закона; убедилась, что никакие действующие статьи УК не предусматривают наказания за убеждения и их открытое высказывание. Что таким образом в процессах по политическим делам в советских судах происходит жульническая подмена понятий. Так, правдивая, но разоблачающая власти информация бездоказательно именуется заведомой клеветой. Мирная (сидячая!) демонстрация, против оккупации Чехословакии квалифицируется как «сборище» и «нарушение общественного порядка». А уж публикация на Западе (под псевдонимами) литературных произведений, сатирически изображающих нашу действительность, расценивается судом как «антисоветская агитация и пропаганда». Осознав, что закон на их стороне, диссиденты стали требовать от властей соблюдения писаного закона, уважения действующей Конституции.
Так зародилось в Советском Союзе правозащитное движение. Между тем суды вершили и вершили — не по закону, а по «понятиям»! — жестокие приговоры инакомыслящим. Казалось, прокурорам и судьям неведомо, что советская Конституция предоставляет своим гражданам свободу слова, печати, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций. Раз за разом правозащитники отвергали безосновательные обвинения в клевете, в антисоветской агитации и пропаганде, и раз за разом отправлялись «мотать срока» в лагеря и «психушки».
К моменту моего ареста я хорошо знал существующую в СССР судебную практику. И нисколько не сомневался, что, несмотря на свою правоту, буду осужден. Но все равно считал нужным заявить в суде свою позицию: «Если бы законом каралось само по себе составление и распространение неофициальной информации, само общение с иностранными корреспондентами и выступления перед ними, — мне пришлось бы признать, что я виновен перед законом. Но закон карает не распространение информации само по себе, а распространение информации ложной, а точнее — заведомо ложной, то есть лживых, клеветнических измышлений. Я постараюсь доказать…, что информация, которую я распространял, как и все мои выступления, не является ни ложной, ни клеветнической». Далее я привел доказательства истинности вмененных мне как клеветнические утверждений, а затем выслушал ожидаемый обвинительный приговор. И вышел на свободу «по звонку» три года спустя.
…Наступила радужная пора перестройки. Были освобождены — правда, только по амнистии — политзаключенные времен «застоя». Но провозглашенное «новое мышление» туго доходило до голов блюстителей юстиции. Вплоть до распада Советского Союза реабилитированных можно было пересчитать по пальцам. Безуспешную попытку восстановить справедливость предпринял в то время и я. Главным пунктом моего приговора были «клеветнические» утверждения о существовании в Советском Союзе злоупотреблений психиатрией по политическим мотивам. Но во времена гласности об этой позорной практике писали выходящие миллионными тиражами газеты и журналы («Медицинская газета», «Комсомольская правда», «Огонек»). Более того, существование злоупотреблений психиатрией было официально признано советскими психиатрами, что вернуло советскую психиатрию во Всемирную психиатрическую ассоциацию (ВПА). Сама статья 190-1, по которой меня судили, была уже исключена из Уголовного кодекса. Все это я изложил в Надзорной жалобе, направленной в 90 г. в Прокуратуру РСФСР. Оттуда в декабре мне пришел ответ: «Осуждение Вас Мосгорсудом является правильным. (…) Оснований для опротестования приговора не найдено». Только спустя год, после принятия в октябре 91 г. Верховным Советом России «Закона о реабилитации жертв политических репрессий», я (в числе многих своих сотоварищей) был, наконец, реабилитирован.