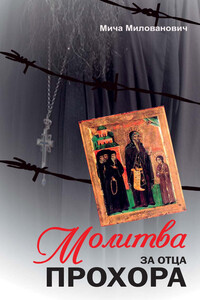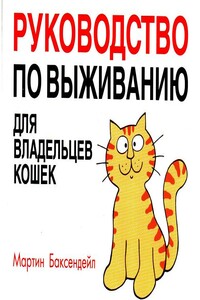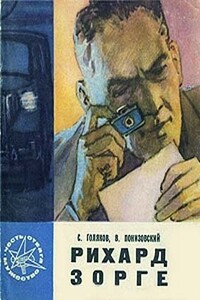1
Фонарь «летучая мышь» в металлической сетке отбрасывал на стол клетчатую тень. В этой паутине белый лист был похож на паука-крестовика.
Антон наклонился над столом. Свежеструганые доски скипидарно пахли, на затесе проступили бусинки смолы. Он начал писать:
«Начштаба 4-го дивизиона.
Доношу, что 29-го в 11 ч. утра произведена мною пристрелка из двух орудий по окопам и работам противника.
Выпущено 5 гранат и 2 шрапнели. После пристрелки неприятельская батарея открыла огонь и выпустила 37 бомб. Одно попадание в блиндированное гнездо четвертого орудия на участке Московского пехотного полка. Орудие не повреждено…»
Путко оторвал карандаш. Потом снова уткнул его острием в лист:
«…Смертельно ранен фейерверкер Егор Кастрюлин. Тут же на позиции Кастрюлин скончался…»
Сутки назад в этом же блиндаже он писал командиру дивизиона ходатайство о производстве Егора Федоровича за боевые отличия в старшие фейерверкеры. И вот теперь, вдогонку — вторая бумага, следующий отрывной листок из той же полевой книжки. А солдата, на которого он всегда мог положиться, чью дружбу так медленно и настойчиво завоевывал, уже нет…
У фейерверкера было широкое, густо поросшее рыжими, в проседи волосами лицо — всегда сосредоточенно насупленное, с прищуренными, будто вовсе закрытыми, глазами. За эти три месяца Антон так и не смог ни разу встретиться с ним взглядом. Казалось, Егор Федорович все время — сидя и стоя, в походе и у орудия — спал. Но на самом деле он был лучшим солдатом на батарее, храбрым и распорядительным, знал службу и выполнял приказания в точности, даже лучше, чем Путко требовал. Был он из «старичков», участвовал в японской, на германскую мобилизовали по второму сроку. На плоской его груди позвякивали медали «За усердие» на Станиславской и Анненской лентах. Как и для большинства других мужиков, война была для него работой. Тяжелой, постылой. Но неотвратимой. Антону представлялось, что с таким же чувством необходимости, с каким приходилось им рыть траншеи, настилать блиндажи, выкатывать на позиции орудия, — выходили они в слякоть и распутицу на поля со своими сохами или волокли дрова из стынущего леса. Надо — и весь сказ. Потому и солдатскую свою работу они выполняли буднично-крепко.
Эх, Егор Федорович, не уберегся…
— Цвирка!
Брезентовый полог зашелестел. В блиндаж, пригибая голову, вошел вестовой. Путко вырвал из книжки листок, сложил, сунул в конверт:
— Караваеву — доставить на фольварк, штабс-капитану.
— Слушсь, вашбродие! — Цвирка исчез за пологом. Тут же вернулся, шагнул к столу, протягивая в ладонях парящий вкусным запахом котелок:
— Повечеряйте, вашбродь. Кашевар, хай ему гриц, тильки доставив.
Лицо Цвирки все было в брызгах, шинель черная.
В блиндаже, под тремя накатами, устоялась влажно-душная тишина, отрешающая от всего, что происходило наверху.
— Льет?
— В три струи, — тряхнул головой солдат. — Оно и пора: у их озими ужо в налив пошли.
«Тебе-то какая забота о румынских хлебах?» — подумал Путко, доставая ложку и зачерпывая из котелка. Его заботил дождь. И тоже это было связано со смертью фейерверкера. Если будет лить, как прошлой ночью, четвертое орудие засосет. Три пушки поручик расположил по склону холма, а четвертую выдвинул вперед, в порядки пехоты, в болотистую низину, не перекрытую от противника спиралями колючей проволоки. «Егора Федоровича не надо было бы предупреждать, а как там Петр, его брат?..» Придется тащиться к четвертому орудию. Иначе и вправду засосет, постромки оборвешь — не вытащишь.
Днем, спустившись туда после обстрела, он застал Кастрюлина еще живым. Не узнал. Лицо фейерверкера стало иссиня-белым под резко обозначившейся рыжиной волос, с широко открытыми, удивленно-огромными глазами. Будто впервые за всю свою жизнь он вот так распахнуто посмотрел на мир и поразился небу, лесу, дали — всему, что открылось опрокинутому взору. Он так и умер — без стонов, казалось, без мучений, с удивленно открытыми глазами. Младший брат Егора Федоровича Петр беззвучно плакал, стоя перед ним на коленях и комкая фуражку.
Как получилось, что старший и младший братья оказались на одной батарее, в прислуге одного орудия, Антон не знал — оба начали службу задолго до него. Внешне они были непохожи. Петр — высокий, длиннорукий, горластый, и даже не рыж, а темноволос и темноглаз, с изрытым оспинами лицом. Моложе лет на двадцать и еще холост. А у Егора Федоровича семья сам-десять… Похоронили фейерверкера неподалеку от орудия, на взгорке, у осин. Теперь дождь, наверное, уровнял бугор. Только свежесрубленный крест останется на чужой земле.
Путко опорожнил котелок. Кулеш оказался на славу: расстарался кашевар, разжился приварком на брошенной боярской усадьбе.
— Передай телефонисту: я на четвертом. — Антон надел фуражку, застегнул плащ. — Ты — со мной.
В траншее хлюпало. Ночь была темная, лило уже какие сутки.
— О как: до Ильи и поп дождя не умолит, а опосля Ильи баба фартуком нагонит! — изрек позади вестовой.
Антон снова вернулся к мыслям о фейерверкере. Поначалу, оказавшись на батарее, Путко почувствовал нерасположение к себе солдат. С чего бы? Нарушая устав, Антон не «тыкал». Не дергал без повода, не вешал без нужды нарядов. А все равно солдаты не подпускали к себе — к своим думам, к своим душам. Хоть и незримая, но бездонная расселина отъединяла его — офицера, «белую кость» — от нижних чинов, «серой скотинки». Казалось, в артиллерии это отчуждение должно чувствоваться меньше: исключая ездовых, и на фронте занятых обычным деревенским делом — уходом за лошадьми, все солдаты были с кое-каким образованием, на худой конец двухлетним церковноприходским. Но зато в артиллерии и на третьем году войны сохранилось больше, чем в других войсках, кадровых офицеров, выпускников академий и привилегированных училищ. Межа, которую, казалось, не запахать. Это и тяготило Антона. Знали бы они… Должны узнать. Но как к ним подступиться?.. Егора Федоровича на батарее слушали, почитали за «батьку». Антон, решив преодолеть недоверие солдат, все надежды возложил на Кастрюлина-старшего. Понял бы Егор Федорович, если бы Путко открылся и сказал, откуда и зачем пришел он в армию?.. Если бы поверил — понял. Но спешить было нельзя. Сначала обвыкнуть самому, заслужить уважение солдат, а оно дается не чинами и даже не Георгиевскими крестами.