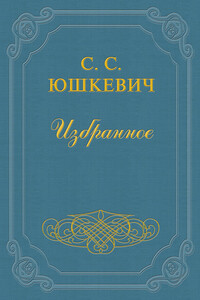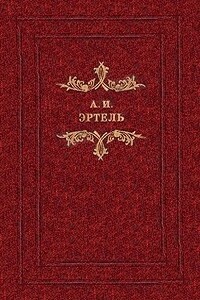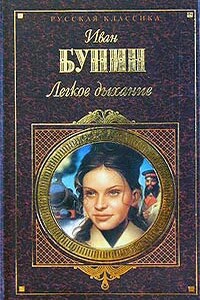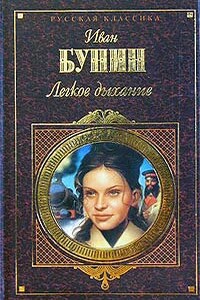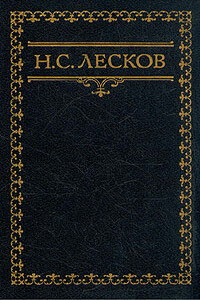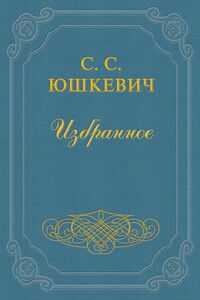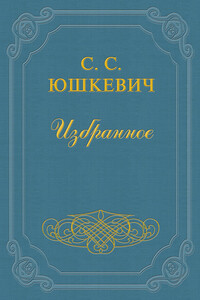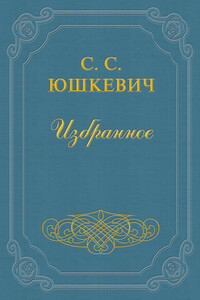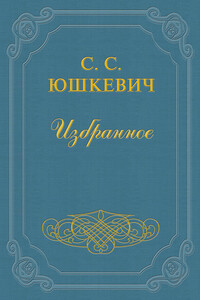Близится вечер… Горничная, в белом переднике и в наколке, накрывает на стол и, расставляя тарелки, старается не шуметь, чтобы не обеспокоить барина с барыней, уединившихся в спальне.
Ровно в шесть сядут обедать… В столовой, большой и не очень уютной, дюжина дубовых стульев с высокими резными спинками, дубовый раздвижной стол, модный буфет с зеркалом, в которое никто не может глядеться, так высоко оно вставлено между двумя колонками-шкапчиками, картины, цветы в больших вазонах… на подоконнике лежит книга – «История философии» Куно Фишера…
Пришли уже гости – отец и мать Ивана Николаевича Галича. Николай Михайлович Галич – невысокий, коренастый старик. Седая борода. На сизом кончике носа пучок седых волос. Глаза у него выцветшие, голубоватые и очень похожи на глаза сына. Лукерья Антоновна, – высокая, худая женщина, в черном платке, строгая, надутая, чванная… Крашеные волосы причесаны по-модному, и их цвет не гармонирует с дряблым, бескровным старушечьим лицом и тонким носом, твердым, как кость. Из чванства она не снимает перчаток и расстается с ними, только когда садятся обедать.
Появления детей в столовой старики, обедавшие здесь только по воскресеньям, ждут терпеливо и без досады… Они привыкли… Отец, расставив ноги и расстегнув черный сюртук, с важным видом читает газету, а мать разговаривает со старухой, бабушкой барыни Елены Сергеевны. Бабушка, которую никто не называет по имени, очень старая, лет под восемьдесят… Она слушает Лукерью Антоновну, не отвечает, а только кивает головой. Ей все равно, что бы она ни услышала… Женился ли кто-нибудь, убили ли кого-нибудь, много ли проживает внучка денег, дорожают ли квартиры, посетило ли важное лицо город, – ей все равно… Может быть, она даже и не слышит, что ей говорят. Как всегда, она и теперь сидит у окна, вглядывается, прищурив глаза, в наступающую тьму, кивает головой и думает думу человека, который не сегодня-завтра умрет…
Она ведь очень стара и очень устала от всего, – от еды, от того, что надо дышать, переходить комнату, умываться, ложиться в постель… Текут года неустанно, опять дети, опять карьеры, любовь и радости и несчастья – все одно и тоже…
Она любит глядеть в окно. Это ее последние радости… Глядит и как бы недоумевающе спрашивает то у рога утренней луны, такого бледного и легонького, как пушинка, то у солнца, что к вечеру становится против окна, сердитого, красного: «Что же это я засиделась здесь?» или «Где это я? Зачем жила и для чего родилась? Что я узнала оттого, что была когда-то девушкой, женщиной, матерью, теткой, бабушкой, что страдала и радовалась, и стала глубокой старухой?..»
Лишь теперь она что-то поняла, разгадала, и оттого у нее такой таинственный вид, и оттого так мудро все кивает головой и улыбается. У нее ведь тайны с окном, а никто об этом не знает. Не узнают, о чем она шепчется с луной утром рано, когда все спят, или с солнцем… Солнце она видит хорошо. Оно старое, престарое, в морщинах. Когда-нибудь и она будет стоять вот в том уголке на небе, – надо только немного подождать, еще поесть, подышать, столько-то раз умыться… И когда она станет на небе рядом с солнцем, то уж все поймет, потому что там все ответы…
Горничная разложила салфетки, нарезала хлеб и бесшумно удалилась.
В спальне Иван сидит подле Елены на большом широком красном диване и, нежно обняв ее, говорит;
– Вечером пойдем в театр… Интеллигентные люди должны ходить в театр, – а после него ночь, и опять мы будем вместе… Лена, помнишь картину Штука? Я прижмусь к тебе, и мы станем похожи на нее… Ты любишь меня?
– Люблю, а ты?
– Безумно! Даже странно, как безумно я люблю тебя. Говори тише, а то папа и мама услышат наши голоса и почтительно подумают про нас, – проснулись!..
Они прижались друг к другу и замерли. Живут ли они теперь, или никогда их не было? Бегут секунды, века… И так сладко вместе, так радостно чувствовать, что там, за окном, терпеливо и бессмысленно движется куда-то человечество, а они тут любовью все превозмогли…
Что важно для их жизни? Важно, чтобы завод Ивана хорошо работал, важно, чтобы кругом них все было налажено и не беспокоило, чтобы старший, двенадцатилетний мальчик, и младший, шестилетний, были веселы и здоровы, чтобы старики, – отец и мать Ивана, ни в чем не нуждались, чтобы прислуга не менялась и не нарушался привычный покой, и еще важно, важнее всего этого, – их любовь…
Иван всегда завален работой, получает с завода тысяч двадцать пять дохода, но уже мечтает о своих пятидесяти годах, чтобы удалиться от дел, отстраниться от жизни… Пусть люди делают, что хотят, стремятся куда-то, верят во что-то, создают, изобретают. Он поселится за городом, в спокойном особняке с садом, с фортепиано, с книгами по философии и искусству… ведь самое ценное в жизни, самое значительное – своя любовь и своя смерть. Любить он будет молитвенно, а к смерти готовиться, потому что все, что называется миром, природой, человечеством – мираж, и ни он, ни Елена к нему отношения не имеют.
Он отодвинулся от нее и стал гладить ее розовые руки от плеча к кисти.
«Иван опять хочет обнять меня, – подумала Елена. – Я люблю его, но хотела бы, чтобы он сейчас этого не делал… Я устала и плохо буду выглядеть вечером, когда придут гости: Савицкий, Глинский и другие… Нет, не это меня занимает… Скажу Ивану».