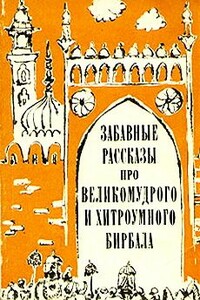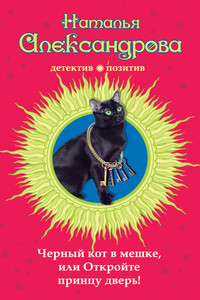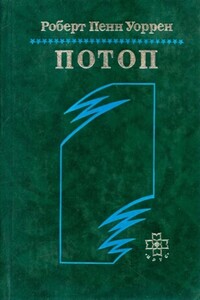Мейзон-сити.
Чтобы попасть туда, вы едете из города на северо-восток по шоссе 58; шоссе это хорошее и новое. Вернее, было новым в тот день, когда мы ехали. Вы смотрите на шоссе, и оно бежит навстречу, прямое на много миль, бежит, с черной линией посередине, блестящей и черной, как вар на белом бетонном полотне, бежит и бежит навстречу под гудение шин, а над бетоном струится марево, так что лишь черная полоса видна впереди, и, если вы не перестанете глядеть на нее, не вдохнете поглубже раз-другой, не хлопнете себя как следует по затылку, она усыпит вас, и вы очнетесь только тогда, когда правое переднее колесо сойдет с бетона на грунт обочины, – очнетесь и вывернете руль налево, но машина не послушается, потому что полотно высокое, как тротуар, – и тут, уже летя в кювет, вы, наверно, протянете руку, чтобы выключить зажигание. Но, конечно, не успеете. А потом негр, который мотыжит хлопок в миле отсюда, он поднимает голову, увидит столбик черного дыма над ядовитой зеленью хлопковых полей в злой металлической синеве раскаленного неба, и он скажет: «Господи спаси, еще один сковырнулся». А негр в соседнем ряду отзовется: «Гос-споди спаси», и первый захихикает, и снова поднимется мотыга, блеснув лезвием, как гелиограф. А через несколько дней ребята из дорожного отдела воткнут здесь в черный грунт обочины железный столбик, и на нем будет белый жестяной квадрат с черным черепом и костями. Потом над травой поднимется плющ и обовьет этот столбик.
Но если вы очнулись вовремя и не слетели в кювет, то будете мчаться сквозь марево, и навстречу будут пролетать автомобили с таким ревом, будто сам господь бог срывает голыми руками железную крышу. Далеко впереди, на горизонте, где хлопковые поля тают в белом небе, бетон будет блестеть и сиять, словно затопленный водою. И вы будете мчаться туда, но оно всегда будет впереди, это ясное, влажное пятно, недостижимое, как мираж. И будут проноситься мимо жестяные квадраты с черепами и скрещенными косточками. Потому что это страна, где век двигателей внутреннего сгорания давно вступил в свои права. Где каждый мальчишка – Барни Олдфилд[1], а девушки с гладкими личиками, от которых холодеет сердце, ходят в шитье, органди и батисте, но без трусов – по причине климата, – и, когда встречный ветер в машине поднимает у них волосы на висках, вы видите там светлые капельки пота; девушки низко сидят на сиденьях, согнув тоненькие спины и подтянув колени повыше к приборной доске, но не слишком сдвигая их, чтобы было прохладней от вентилятора – если это можно назвать прохладой. Где запах бензина и горящих тормозных колодок и красный стоп-сигнал – слаще мирры. Где восьмицилиндровые махины срезают виражи среди красных холмов, разбрызгивая гравий, будто воду, а когда они спускаются на равнину и дуют по новым шоссе – смилуйся, бог, над душами путников.
Дальше по шоссе 58 – и ландшафт меняется. Остаются сзади равнины, хлопковые поля, и купа дубов у большого дома и выбеленные – одна в одну – хижины, выстроившиеся вдоль поля, и хлопок, подступающий к самому порогу, где сидит негритенок, сосет большой палец и смотрит, как вы проезжаете мимо. Теперь все это позади. Теперь – лишь красные холмы вокруг, кусты куманики у изгороди, да черные бочажки в лощинах, да изредка молодой сосняк – если его не спалили под выгон для овец, а если спалили – то черные пни. И еще – хлопковые посевы, опоясывающие склоны холмов, рассеченных оврагами, да жухлые, неподвижные листья кукурузы.
Когда-то здесь были сосновые леса, но их давно свели. Наехала сюда всякая шантрапа, настроила лесопилок и кредитных лавок, провела узкоколейки и стала платить по доллару в день, и народ попер из лесов за этим долларом, народ повалил бог знает откуда, со своими комодами и кроватями, со своими пятью ребятишками на фургонах, со своими старухами в чепцах, жующими табак, и младенцами, вцепившимися в титьку. Пилы пели сопрано, приказчик отвешивал патоку, сало и записывал долг в своей большой книге; доллар янки и тупость южан залечивали раны четырехлетней братоубийственной распри, и все крутилось, и вертелось, и шло гладко, как по маслу. А потом оказалось вдруг, что сосновых лесов больше нет. Лесопилки были разобраны. Узкоколейки заросли травой. Народ растаскал магазины на дрова. Не стало больше доллара в день. И воротилы разъехались в бриллиантовых перстнях и черном двойном сукне. Но кое-какие люди осели здесь, чтобы смотреть, как вгрызаются овраги в красную глину. И кое-кто из них со своими потомками и правопреемниками остался в Мейзон-Сити – тысячи четыре народу, не больше.
Вы въезжаете в город по шоссе 58, мимо прядильни и электростанции, мимо вереницы негритянских хижин, по улице, застроенной белыми некогда домишками с железной кровлей и тоскливым пряничным кружевом резьбы на карнизах террас, мимо дворов, где листья деревьев млеют и никнут от зноя, и сквозь вежливый шепот восьмидесятисильного верхнеклапанного (или какой там у вас) на скорости сорок миль слышите жужжание июльских мух, ввинчивающихся в зелень.
Таким я застал Мейзон-Сити в последний раз – почти три года назад, летом 36-го. Я сидел в первой машине, в «кадиллаке», вместе с Хозяином, м-ром Дафи, женой и сыном Хозяина и Рафинадом. Во второй машине, которая была не так элегантна, как наша помесь катафалка с океанским лайнером, но все же не заставила бы вас краснеть на стоянке загородного клуба, ехали репортеры, фотографы и секретарша Хозяина Сэди Берк, которая следила за тем, чтобы ежи не налакались и были в состоянии делать то, что им положено делать.