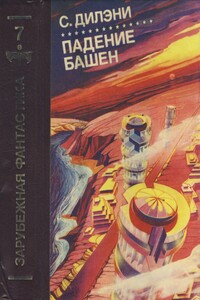Хлеба насущные цвели,
в тон василькам носились платья.
Год первый вышивался гладью,
и утро с запахом оладий
влекло меня на край земли.
Да, край земли тогда был близко,
но тесен был манежный плен —
хоть я до маминых колен
и доросла, до перемен
не доросла ещё Ириска.
Что ж, в утешители призвав
нос целлулоидного зайца —
а чем в манеже утешаться? —
точила зуб на домочадцев
и думала, как мир неправ.
Ведь я тогда постичь могла
закон земного притяженья —
и был разломанным печеньем
пол заманежья сплошь усеян,
но вновь сердитая метла
внеся по-быстрому поправки,
сметала начисто мой труд.
Я поняла потом — не ждут
моих открытий.
Мир зануд — «сиди в манеже
и не мамкай!»
Но время шло, и я росла,
учась по ходу притворяться —
хоть тяжек груз цивилизаций,
но детству свойственно смеяться —
и, в общем, выросла мила.
А вскоре тягостный манеж
преодолён был между делом.
Мир показался твёрдым телу,
но тело оказалось смелым,
и не подавлен был мятеж.
Я помню этот сладкий миг
прорыва за черту запрета —
потом ни поцелуй брюнета,
ни дым от первой сигареты
того триумфа не затмил.
Там за порог звала судьба,
дышало небо васильково,
мне, низвергающей основы,
мир открывался гранью новой,
и спели жёлтые хлеба...


![«Мастер и Маргарита» сквозь призму оккультизма. [Ч. 2]](/build/oblozhka.dc6e36b8.jpg)