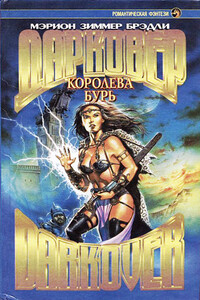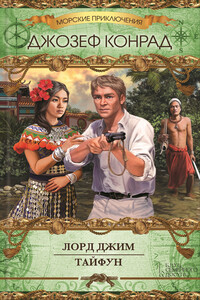Есть два рода просвещения: просвещение ученое и просвещение эмпирическое. Первое есть достояние касты, удел немногих избранных, обрекших себя на хранение священного огня в храме, недоступном для профанов; второе есть достояние общее, потребность массы, умственное богатство целого народа. Париж есть первый город Европы в умственном отношении; все ученые, которыми гордилась и гордится Франция, были и суть граждане великого города; и однако ж на статистической карте народного просвещения, составленной Дюпенем, департамент Сены означен краскою чуть-чуть не черною{2}. И наоборот, в Норвегии всякой мужик есть человек грамотный, а мы не знаем имен норвежских ученых, нам неизвестны академии и другие общества Норвегия. Государство, которое гордится мировыми именами гениев науки, в котором высшие классы общества стоят на самой высокой степени просвещения, а масса народа коснеет в диком невежестве, такое государство еще не проявило вполне всей своей жизни, не дошло до цели своего существования; словом, оно еще молодо, юно, незрело. Государство, масса которого стоит на известной и одинаковой степени возможного для массы просвещения, но которое не возрастило науки и не имело представителей знания, это государство показывает, что или провидение судило ему играть незначительную роль в великом семействе человеческого рода, или что оно еще менее, чем младенец. Итак, то и другое просвещение должно быть в полной гармонии, чтобы вполне развилась жизнь народа, вполне было выполнено им его значение.
В наше время эта истина глубоко постигнута, и у просвещенных народов Европы сближение науки с жизнию составляет один из главнейших предметов их усилий и деятельности. Ученейшие люди проповедуют знание, приноравливаясь к языку и понятиям своих слушателей, снисходя до них и нарумянивая, так сказать, науку, чтобы сделать ее привлекательнее для толпы. Народу нужны познания чисто фактические, идея не для него; но народ есть общество, а общество представляет, в своей совокупности, множество ступеней; поэтому и самый образ изложения светской науки должен быть различен. У нас народу, то есть самой грубой массе народа, нужна еще только азбука, а когда выучится ей, ему нужно ознакомиться с основаниями религии и другими первоначальными человеческими идеями; другого знания для него пока не нужно. Но в других сословиях одни почитают себя вправе ничего не знать и ничему не учиться, а другие и должны бы по всем законам, божественным и гражданским, да не хотят. Вот для этих-то людей должно трудиться нашим литераторам и ученым; эти-то люди должны представлять для них обширное поле деятельности, не блистательной, но благородной, не славной, но почтенной. Я не говорю уже о людях, которые жаждут знания и не имеют никаких средств удовлетворить этой жажде. В самом деле, что у нас сделано до сих пор для употребления общего, народного? У нас есть ученые, именами которых мы по справедливости гордимся, у нас есть несколько ученых сочинений, которых достоинство не подлежит никакому сомнению; но у нас все-таки нет ни ученых книг, ни книг для общего чтения с целью самообразования. Думаем, что это происходит оттого, что у нас все ищут и добиваются больше эфемерной славы, нежели хотят служить добру.
«Путешествие Дюмон-Дюрвиля» есть книга народная, для всех доступная, способная удовлетворить и самого привязчивого, глубоко ученого человека, и простолюдина, ничего не знающего. Дюмон-Дюрвиль объехал кругом света и решился почти в форме романа изложить полное землеописание, соединив в нем факты, находящиеся в сочинениях известных путешественников и приобретенные им самим. Заманчивость и прелесть его описаний не дают оторваться от книги, когда возьмешь ее в руки. Но читатели должны уже иметь понятие о достоинстве этого сочинения из объявления, напечатанного переводчиком в «Московских ведомостях»{3}, и потому мы не считаем за нужное слишком распространяться на этот счет. Заметим только, что эта книга переведена со всею тщательностию, со всею добросовестностию, что ее издание опрятно, даже великолепно, и, в этом отношении, не уступит петербургским изданиям. Портрет Кука и сорок восемь рисунков нисколько не уступают французским оригиналам. Цена самая умеренная: за шесть частей, из которых одна первая состоит с лишком из двадцати пяти листов, тридцать рублей. Вторая часть выйдет к марту, а шестая в июле месяце нынешнего года{4}.
Мы сказали о книге; теперь нам остается сказать об одном обстоятельстве, имеющем к ней близкое отношение. Предприятие г. Полевого давно было всем известно; он напечатал большой отрывок, кажется, из второго тома, в «Наблюдателе» и другой отрывок в «Сыне отечества». Вдруг летит в Москву программа об издании «Путешествия Дюмон-Дюрвиля» par livraisons[1], с приложением образчиков перевода и картинок: это дело г. Плюшара. Конечно, иностранное сочинение никому не принадлежит исключительно, и всякой имеет право переводить его, даже и зная, что другой занимается тем же переводом; но добросовестное ли дело подрывать кого бы то ни было в его предприятии? У г. Полевого перевод весь готов, чего не мог не знать г. Плюшар; первая книга была уже напечатана, картинки готовы, и на все это, разумеется, употреблены были деньги. У г. Плюшара, напротив, ничего не готово; доказательством может служить его намерение издавать это многотомное сочинение тетрадями: что же заставило его мешать, перебивать успех у московского литератора? – И что за мысль издавать подобную книгу по тетради в месяц? Лишь только читатель заинтересуется содержанием этой тетради, как вдруг должен отложить удовлетворение своего любопытства на месяц; ему приносят другую тетрадь, а он уже забыл первую. И добро бы издание г. Плюшара было лучше, но оно во всех отношениях далеко отстает от издания г. Полевого: перевод образчиков сделан наскоро, язык дурен, шероховат, печать хуже, и картинки – лубочные в сравнении с картинками московского издания. Само собою разумеется, что предприятие г. Плюшара