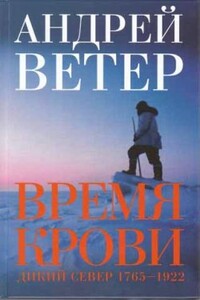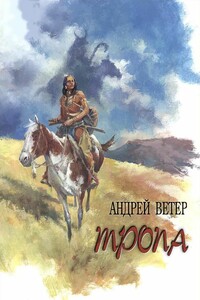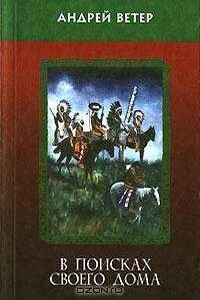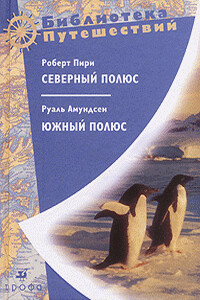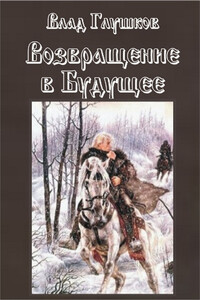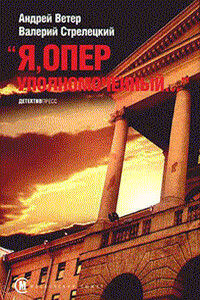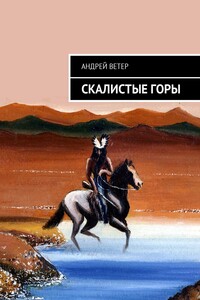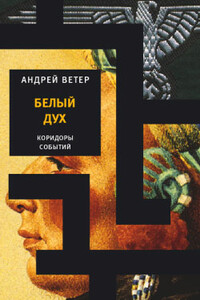Плясавший возле костра человек был одет в сильно потёртые узкие штаны из грязной оленьей шкуры. Его голый торс, вымазанный медвежьим жиром, выглядел щупло, кожа на груди и животе лежала вялыми складками, похожая на мокрую коричневую бумагу, обвислые мышцы на руках зыбко подрагивали. И всё же его внешность внушала страх. Лицо, мелко изрезанное морщинами, сверкало чёрными злыми глазами, подёргивался квадратный подбородок, поросший жидкими седыми клочками. Почти совсем лысый череп не отличался гладкостью и был будто весь измят чьими-то жестокими пальцами; за ушами и над шеей свисали сальные волосы, длинные и редкие.
Человек держал в одной руке бубен, в другой – короткую палку, которой он ритмично стучал в бубен. Сильно согнутые в коленях ноги косолапо перескакивали то вперёд, то вбок, следуя не ритму бубна, а какому-то иному звуку, не слышному никому из присутствовавших людей, кроме шамана.
Вокруг огня расположились на расстеленных шкурах молчаливые фигуры, облачённые в прокопчённые кожаные одежды, и следили узкими глазами за каждым движением старого танцора. Их круглые лица выражали неподдельный интерес и напряжённое внимание. Пламя то становилось ярче и выхватывало фигуры зрителей из темноты жилища, со стен которого свисали меховые связки и всевозможные ремни, то притухало, и люди почти исчезали во мгле. Только их глаза продолжали блестеть.
Старик прорычал что-то и отложил бубен. Постояв некоторое время в полном молчании, он начал напевать какую-то неровную мелодию, иногда переходя на крик, иногда – на шёпот. Его руки парили в воздухе, как бы нащупывая невидимые предметы. Затем он вдруг нагнулся к земле и подхватил круглый камень, валявшийся под ногами. Не переставая двигаться, старик поднёс камень ко рту, подышал на него и внезапно резко отвёл обе руки от лица, стиснув камень между ними. Его ладони двигались так, словно перетирали камень, и через несколько минут из голых рук стали сыпаться мелкие камешки.
Сидевшие вокруг продолжали хранить молчание, но многие задвигались, возбуждённо закачали головами, вытянули шеи, впитывая каждой порой кожи всё, что происходило на их глазах. Камешки не переставали сыпаться из рук шамана, и вскоре на полу образовалась целая груда мелких камней.
Старик неожиданно рухнул на колени и стукнулся лбом о землю. Его ладони разжались, и все увидели, что подобранный им с земли камень остался таким же целым и гладким, как в начале таинственной пляски. Куча камешков у его ног пришла через его руки из небытия.
– О, Седая Женщина силён, как прежде! – донёсся голос из темноты.
Шаман медленно оторвал лицо от земли и взглянул на костёр. Выпустив камень из ладоней, он рукой почесал у себя в паху, затем вытянул её в сторону, лениво шевеля пальцами.
– Принесите мне голову, – проговорил он скрипучим голосом.
Кто-то быстро подбежал к нему, держа за рога только что отрезанную оленью голову. Голова тяжело стукнулась о землю, из её рта вывалился, как мокрая лента, язык. Шаман мелко задрожал, притронувшись к оленьему языку, вялые мышцы на его спине пошли волнами, зад приподнялся, подрагивая. Лицо старика вжалось в землю, и оттуда донеслись его слова:
– Олень скажет слова.
Человек, бросивший шаману оленью голову, ловким движением отсёк язык животного под корень и вложил его в вытянутую руку шамана. Тот принял его на ладонь, медленно сел, обвёл невидящими глазами всех собравшихся и запихнул олений язык себе в рот. Теперь его отталкивающее лицо, со свесившимся изо рта длинным языком, стало ещё отвратительнее. Шаман принялся раскачиваться, болтая языком, как маятником, и громко мыча.
Прошло изрядно времени, прежде чем старик прервал своё мычание. Опустившись головой к земле, он отрыгивающими движениями освободил рот от оленьего языка и проскрипел:
– Они уйдут, мы прогоним их. Олень говорит, что белые люди уйдут и сожгут свою крепость…
Ночь, орошённая лунным блеском, постепенно отступала, долина наполнялась ровным светом, пространство пропитывалось серебристой дымкой. Воздух стоял неподвижный, тихий.
– Теперь уж совсем рано светает, – проговорил высокий молодой человек, сладко потягиваясь и почёсывая подбородок, покрытый редкой порослью. – И ночи уже не столь тёмные.
– Ежели до зимы вдруг доживёте, то удивитесь, какие тут ночи глухие, точно бесконечные, – отозвался второй человек, поднимаясь из-под тёплого одеяла.
– Чего ж не дожить-то? – Юноша одёрнул красный камзол, в котором провёл ночь, и быстро надел изрядно помятый зелёный мундир, оставив его расстёгнутым. – Отчего ж не дожить до зимы? Время, поди, за пятки не прикусывает.
– Вам виднее, Алексей Андреич, вы человек служивый, – сказал второй, потирая красное лицо, опутанное чёрной бородой. Ему давно перевалило за сорок; крупный, плечистый, он был похож на заспанного медведя. Он пошевелил бородой, неторопливо натянул поверх бесцветной косоворотки безрукавку из овчинки мехом внутрь, погладил широкими ладонями штаны из грубой шерсти, присел несколько раз, разминая ноги, поплясал на месте, оглядываясь. Восемь нарт стояли полукругом возле костерка, тут и там лежали на земле пушистыми буграми меха, послужившие только что людям постелями, громоздились сумки и мешки. Поднимавшиеся поодаль пологие холмы были покрыты прозрачным лиственничным лесом и белевшими, как заплаты на чёрной земле, огромными пятнами снега. Этот снег наметался в течение долгой зимы, спрессовывался ветрами, утрамбовывался и теперь не желал плавиться на солнце, нависая многометровыми козырьками на склонах и истекая холодной водой. – Эх, красота-то какая! А вот ещё зазеленеет вовсю… Жаль, что ненадёжны здешние красоты, всюду за ними можно ждать подвоха.